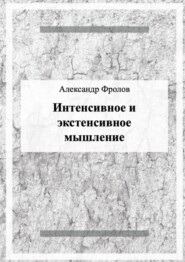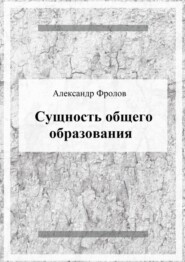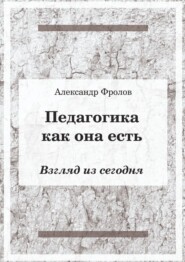По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заблудившиеся во времени. Баллада о старости
Автор
Год написания книги
2022
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заблудившиеся во времени. Баллада о старости
Александр Фролов
Люди постепенно стареют – так устроено природой. Как живётся старому человеку и его близким?Общество не любит стариков, и это логично и закономерно. Но что теперь, вводить принудительное самоубийство?Книга поднимает неприятные вопросы о старости и даёт ответы на некоторые из них.
Заблудившиеся во времени
Баллада о старости
Александр Фролов
© Александр Фролов, 2022
ISBN 978-5-0056-7376-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА
Мне около тридцати пяти. Мне нравится моя жизнь. И вообще жизнь нравится. Я успел много чего натворить, и, похоже хорошего больше, чем плохого. У меня есть практически всё необходимое. В процессе жизни сформировались долг? и д?лги, которые надо отдавать. Хотя бы потому, что разные люди, которых уже нет с нами, оставили во мне свои следы, уходящие в Вечность. Я постараюсь отдать. Для этого у меня есть будущее. Я хочу, чтобы мне не было одиноко там, в будущем. И если эта книга поможет выйти туда заблудившимся во времени, я буду ещё более счастлив.
Александр Фролов
Вместо пролога
Детство и юность я провёл в городе Алма-Ате (ныне – Алматы). Город расположен в подковообразном изгибе отрогов хребта Заилийский Алатау. И, как теперь модно говорить, брендом города являлись, да и сейчас являются висящие над ним голубоватые горы, вершины которых покрыты вечными снегами. В ясную погоду снега блестят под солнцем. Ниже снегов – скалы и альпийские луга, ещё ниже – леса знаменитых тяньшанских елей, издали кажущиеся тёмно-зелёным бархатом, прорывая который вырастают эти вершины. Формы вершин совершенно различны – зубчатые пики-стены, во впадинах которых порой видны или угадываются ледники, острые пирамидальные пики. И то ли набегают на всё это великолепие, то ли стекают с него округлые зелёные волны предгорий или, как ещё их называют, «прилавков». Они более светлых оттенков зелёного и тоже кажутся бархатистыми – ни дать, ни взять хемингуэевские «зелёные холмы Африки». На самом деле, как и холмы Африки, предгорья покрыты не столько травой, сколько невысоким, по колено, кустарником, преимущественно колючим. Но расстояние скрадывает эту колючесть, как и острые края скал и их обломков, рисуя завораживающую благостную картину, манящую и притягивающую.
Естественно, с самого детства всё это исследовалось и ощупывалось – постепенно, с возрастом, от прилавков до снегов. И складывалась единая, стройная картина, прекрасная в целом и допускающая увеличение волшебной лупой памяти до отдельных камней, деревьев, кустов и травинок.
Город стоял и стоит на плавно понижающемся ровном склоне хребта, к границе своей выбегая в степь, наклон которой уже практически неощутим. Степь была покрыта травой, а местами серебрилась ковылём. Там жили всякие удивительные животные, некоторые из которых сейчас практически уже вымерли с помощью человека. Такие, например, как страусы наших степей – дрофы. Дальше в степи становилось всё больше песчаных пятен, и она переходила в пустыню с барханами, поросшими саксаулом и своими особенными, пустынными кустарниками. Весной эта пустыня на короткое время покрывалась травой, цветами и булыжниками совершенно одуревших от весны и любви черепах. По барханам ночью носились тушканчики, зайцы, мелкие пустынные лисы и длинноногие ушастые ежи. В пыли редких дорог сидели диковинные ночные птицы. А днём – бегало и ползало множество различных ящериц и змей, оставляя на песке следы, быстро стираемые ветром.
По пустыне протекала большая река, в которой водилась разнообразная рыба. По реке даже ходили небольшие суда.
И весь этот закономерно изменяющийся ландшафт с его населением осваивался, исследовался и записывался в памяти, неистребимо врезаясь в неё.
А потом жизнь продолжалась и наполнялась другими интересами. Менялись места обитания этих интересов – учёбы, работы, семей… Но пейзажи, впечатанные в память, по временам всплывали, проявляясь, как на листе фотобумаги, погружённом в проявитель. Всплывали во сне и наяву яркие чёткие фрагменты реальных пейзажей и происходившие на их фоне события.
По мере удаления во времени и пространстве от любимых мест детства и юности, по мере непрерывно растущей занятости, пейзажи этих мест и времён вытеснялись в сны. И там, в снах, желание сохранить целостность такого прекрасного и ценного мира, привело к удивительному явлению. Начал складываться некий единый пейзаж, который я почти сразу назвал «синтетическим», поскольку он был сюрреалистично синтезирован из достоверных фрагментов. Со временем этот синтетический пейзаж оттачивался, с одной стороны – уточняясь, с другой – обобщаясь. И в конце концов, примерно к моим тридцати годам, практически сложился окончательно.
Вот как он стал выглядеть. Степь – пастельно-зелёная, без каких-либо мелких деталей. Она практически плоская, но очень незначительно, буквально на уровне догадки, всей плоскостью поднимается к горизонту. И там, далеко, плавно, но быстро переходит в одинокий, такой знакомый и в то же время совершенно абстрактный в своей уединённости пик с заснеженной вершиной. Других гор рядом с ним нет, да и вообще внимание сосредоточено только на нём. Ни рамок, ни размытых краёв картины – просто степь, переходящая в гору.
К горе ведёт дорога. Обычная грунтовая дорога, по-видимому, пыльная, желтовато-глинистого цвета, с обычными для такой дороги неровными обочинами. Там, далеко, дорога, слегка извиваясь, уходит на гору, сужаясь в перспективе до невидимости уже к середине горы. Но совершенно очевидно, что она продолжается, постепенно становясь тропой. Наверное, по этой тропе можно зачем-то добраться до вершины. Откуда взялась дорога, кто натоптал тропу – вопросов не возникает. Точнее – они не имеют смысла.
Я всегда в снах чувствую себя находящимся на этой дороге или очень близко к ней. Отражения других реальностей в сиюминутных снах стягиваются к дороге с разных её сторон. Порой именно сюрреалистично – точно в деталях, но совершенно диковинно в сочетаниях. Это может быть заливчик реки Сырдарьи, изобилующий рыбой, какой-то склон, поросший травой и с протекающей по нему каменистой рекой. В другом сне, у другой обочины можно распознать место, похожее на песчаный пляж вблизи посёлка Джемете под Анапой – с толпами людей и другими спутанными и искажёнными реалиями прошлой и будущей жизни. Но никакие из этих видений не пересекают дороги. Она уходит вдаль, к вершине, пустая и независимая.
Интересно то, что со временем – от года к году жизни и от сна к сну про дорогу – я продвигаюсь по ней, медленно, но неотвратимо приближаясь к горе. Иногда задерживаюсь в каком-то месте типа небольшого поселения. Покупаю там старый дом и зачем-то ремонтирую его, обихаживаю участок и сажаю на нём кусты и деревья. И в последующих снах про дорогу опять ухожу по ней. Иногда вспоминаю, что там, позади, есть куда вернуться. Но впереди вдоль дороги, после локальных быстро переживаемых фрагментов, всё такие же пустые обочины до самой горы.
Несколько раз подряд я всё же достигал горы и даже поднимался выше нижнего уровня снегов. Там были крупные неровности рельефа, впадины, подъёмы и повороты, однако тропа каким-то образом угадывалась. Но каждый раз я оттуда возвращался. Причём быстро, на лыжах, хотя никогда не увлекался горными лыжами, да и вообще кататься на лыжах даже с небольших горок не любил. А тут – экстрим, стремительный как побег. Этот период быстро прошёл, и больше так высоко я не забирался.
Последний раз, уже совсем недавно, я побывал в одном из ранее посещавшихся придорожных поселений. Люди, как это бывает в снах, меня не замечали. Окна и двери некогда, в давних снах, отремонтированного старого дома заколочены досками. Но сад! Довольно заросший, он был настоящим садом взрослых, больших деревьев. И это были прямо-таки уже старые вишни сорта, который с детства жил во мне как «алма-атинская черешня». Деревья были просто усыпаны этой черешней. Спелой, тёмной, местами начинающей подсыхать и сморщиваться – никто её не собирал. Помню, как вернулся оттуда на дорогу, так и не попробовав черешни, но не испытывая сожаления. Пока я больше туда не возвращался. А гора была уже совсем близко.
Запретная тема
Это жизнь, и никто из нас не выберется отсюда живым.
Ричард Гир
Так много написано про детство и так замечательно! И рассказывают люди о своём детстве, пусть даже и не очень удачном, но без особенных катастроф, как минимум охотно, а то и с удовольствием. Ещё больше и ещё лучше написано про юность, такую волнительную, первооткрывательскую, эмоциональную. И много ещё какую – большая взрослая жизнь уже на пороге, и там, внутри человека, идёт подготовка к ней. Порой – неудачная, порой – нелепая, но идёт! Дальше – больше. Захватывающая, кажущаяся всемогущей и вечной молодость. Наконец, вся человековедческая культура взлетает на немыслимую высоту в описаниях ранней зрелости – человек может многое, но уже знает, чего хочет, или чего можно хотеть, а чего – лучше не надо. Великий романтик Юрий Кукин всю эту лестницу с её продолжением описал гениально кратко и просто:
Тридцать лет – это время свершений,
Тридцать лет – это возраст вершины,
Тридцать лет – это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся.
Пятьдесят – это так же, как двадцать,
Ну, а семьдесят – так же, как десять!
Что же там, дальше, за этим десятилетним рубежом? А там – табу. Не штучное, мелкое, а сплошное и системное табу. Там начинается страшная страна, имя которой – Старость. И то ли плотный занавес, то ли гильотина отсекают уходящих туда людей от понимания их другими. Всё! Были такими понятными и делали то же, что и все, вместе со всеми. Да и чувствовали, судя по всему, то же, что и остальные, которые теперь остались здесь, с нами. А ушедшие унесли с собой туда, не знаем куда, свой внутренний мир, и так-то доступный лишь по договорённости, а теперь – недоступный вовсе. И никто, никто не хочет узнать, чем живут ушедшие там, внутри себя. Страшно. И их отправляют доживать, дохаживая. Есть такое русское слово, пытающееся отразить эту страшность. Дохаживая, ухаживают и даже заботятся, успокаивая себя и свою совесть отдачей долгов, займов и долгов. А они уже в другом мире, но ещё живые и чувствующие, порой утрачивающие возможность ныне чувствовать, как раньше, а порой – не имеющие на это права по общественным представлениям. И собственное чувствование для них важнее долженствования окружающих. Гораздо важнее.
Что творится в этих седых и лысых головах за густой сеткой морщин на всё менее узнаваемом лице? Сами головы молчат. Почему молчат? Да по одной из двух причин или по обеим сразу. Первая – не умеют, не могут передать своих состояний, переживаний, чувств, желаний. В массовость этого трудно поверить. Должны же быть хотя бы исключения! Ан нет. Вторая – не смеют: не поймут, осудят и лишат покоя даже там, за предпоследней чертой. И это своей безысходностью хуже переживания любой другой сегрегации. Почему не поймут, почему осудят – никто не знает и не говорит. Но это так, и прочный забор из боязни осуждения неясно за что, густо переплетённый застенчивостью даже у тех, кто раньше ею не отличался, – надёжная защита таких удобных всем границ резервации.
Да и описания как обрезало. Запретная пора, запретная тема! Илью Мечникова, основателя современной научной геронтологии, интересовали, прежде всего, продолжительность жизни и здоровье, прячущиеся вместе с микрофлорой в толстом кишечнике. Не входили мироощущения старых в круг его детальных исследований. Да и писал он замечательные «Этюды о природе человека» в пятьдесят шесть лет, сам ещё далеко не долетев до пограничного столба заколдованной страны. Не ударился тогда ещё сам об этот столб.
Николай Амосов с его «Мыслями и сердцем» – всё больше о работе и про здоровье опять же. Но ведь для того, чтобы эффективно работать и быть допустимо здоровым, надо жить, жить «здесь и теперь», ощущая, чувствуя, мечтая, стремясь и надеясь. Согревая и поддерживая тех, кто связан с тобой человеческим общением, и быть согреваемым и поддерживаемым, в какой бы диковинной валюте ни происходил этот обмен. Жить только ради здоровья и работы – это какой-то тоскливый вывертыш очень умного, мудрого, но чрезвычайно напуганного чем-то человека.
Ближе всех, наверное, подобрался к заветному столбу Герхарт Гауптман со своей драмой «Перед заходом солнца» с суицидом в финале в результате травли, чинимой заинтересованными дохаживающими родственниками. Из-за спины Маттиаса Клаузена, семидесяти лет, выглядывает сам семидесятилетний к тому времени Гауптман. Но и его привлекала якобы психологическая канва поведения этих самых родственников, а не внутренние детали чувственных устремлений самого Маттиаса, в том числе – к восемнадцатилетней Инкен. Кстати, вполне обоюдных устремлений. В общем, нездорово как-то, и потому неловко. Зачем это он? Чего ему надо-то, в семьдесят-то лет? А девочка – либо просто странная, либо просто корыстная, либо просто глупая. Хоть и бросилась с пистолетом воевать за уже беспомощного и бесправного. Нет, непонятно, что там было у Маттиаса за глухим забором в голове.
Старость надо встретить как? Досто-о-ойно. Что-то мормонское есть в этом наставлении. То есть, предельно искусственное и неопределённое. Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни» знал, что нужно человеку для достойной встречи старости. Правда, не знал, как дальше жить после этой встречи. Но сам не успел дожить до старости. Достаточно молодым пристрелил его Сухов. Так что про достоинство в старости мы ничего не знаем. Кроме, разумеется, штампов: чистоплотность, коммуникабельность, доброта, отсутствие признаков маразма, ну, и наследодательство, разумеется. Может быть, ещё какие-нибудь менее значимые достоинства обозначатся. Но, избави Бог, не должно быть места недостойным мыслям и желаниям. А тут уж не в старость впавшему определять, что для него достойно, а что – нет. «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит». Тот – это окружение, общество, особенно – ближние, которые присутствовали при гильотинировании и даже принимали в нём участие. А сейчас заняты строительством глухого забора вокруг резервации, как на границе США с Мексикой. Чтобы уж те, кому теперь не следует, не высовывались в нормальную-то жизнь.
Всемирная организация здравоохранения сообщает человеку в его семьдесят пять лет, что он вступил в старость. А окружение – малое и большое – сделало это задолго до того. «Уже не так неутомим (а), работоспособен (-на), грузоподъёмен (-на), быстр (а), сообразителен (-на), памятлив (а)…». Пора знать своё место. Непонятно какое, но пора.
А ведь действительно, «уже не так…». Гормоны устали нахлёстывать лошадей. И ловит себя человек на том, что ему не только не можется, но и просто не хочется того, чего так хотелось раньше. Так уж устроена природа, что она во избежание психических травм пытается мудро и тактично перевести этого человека из состояния «не можется» в состояние «не хочется». Но это происходит в техническом, подвальном этаже деятельности мозга. А в цокольном этаже, в подсознании, живёт память о теле человека. Том теле, которое верой и правдой безотказно служило ему, по-разному в разные периоды жизни. В какие-то периоды служило особенно хорошо.
У мозга во всех проявлениях его деятельности есть только одна генеральная задача: обеспечить выживание нашего тела – этого хрупкого и недолговечного носителя. Поэтому мозг работает исключительно в будущем времени. Нет у него ни настоящего времени, ни прошедшего. И даже память о прошлом – не что иное, как материал для построения ткани будущего. В котором и живёт прошлое, оставаясь полностью виртуальным или же становясь основой новой реальности.
Таким образом, жить или не жить – вот в чём вопрос. Человек, который отрезан от той жизни своего тела, к которой он привык за долгие лучшие для него годы, оказывается без будущего. Нельзя придумать ничего более тягостного. Не утрата или ослабление отдельных функций, пусть даже и значимых ранее, а именно отсутствие будущего. Раннее осознание этого в начальном периоде старости может привести к суициду, форма которого – практически любая в рамках личностного осознанного или подсознательного восприятия проблемы. От выстрела или яда до какой-либо зависимости, однозначно ведущей к ускоренному наступлению смерти. Это мечущийся в поисках решения задачи организации будущей жизни мозг не смог справиться со своей главной обязанностью. Что-то вроде птицы у гнезда: никого она никуда не уводит, никак она не притворяется. Просто одним частям тела поступает от мозга приказ удирать от опасности, а другим – сидеть на гнезде. Такое происходит, если какое-то время в мозге сосуществуют два равновеликих очага возбуждения. Потом всё же срабатывает принцип доминанты, остаётся один очаг, и птица улетает или возвращается к гнезду при отступлении опасности. Но пока она непроизвольно бессильно мечется, расторопный охотник может её поймать. А смерть – расторопный охотник, хотя бы потому, что она необратима. Птица может вырваться из зубов, но не из смерти. Влетевший в «синдром птицы у гнезда» человек бессилен, у него не срабатывают уже компенсаторные механизмы, присущие более молодому возрасту. И сдавшийся мозг отказывается от борьбы, уводя человека по пути наименьшего сопротивления.
Но вот мозг вышел из метаний. Из чего и на чём строить будущее? Поистине страшные возможности человеческой памяти услужливо подсовывают лучшие, наиболее приятные ощущения, именно ощущения, телесной жизни человека из её периодов, которые запомнились как самые яркие по сравнению с остальными. Детальная память в цвете, вкусе, запахе и тактильных ощущениях – это эйдетическая память. Полный эйдетизм – это уже психиатрия. Но психиатрия, являющаяся предельным случаем виртуальной жизни человека в изоляции от новых ощущений.
Частичный эйдетизм позволяет мозгу строить вполне достоверные в плане ощущений картины его будущей жизни. Дело в том, что в потоке сознания ощущения, порождённые воздействием окружающей среды, неотличимы от ощущений, вызванных из памяти. Таковы уж свойства мозга в его взаимоотношениях со временем. Поэтому человек с эйдетическими возможностями в условиях изоляции от требующихся ему ощущений, в первую очередь – связанных с человеческим телесным общением, может жить достаточно полноценной виртуальной жизнью. В таком случае он практически не нуждается в контактах с окружающими, поскольку его виртуальные ощущения ярче предлагаемых ему этим самым окружением. Всё это распространяется и на ощущения, получаемые при взаимодействии с природой. Однако в этом случае реальные ощущения вполне равноправны с виртуальными и никак не зависят от общения с людьми. Поэтому изоляция приобретает добровольный отшельнический характер, и человек удаляется в свой внутренний мир, в котором и живёт более или менее успешно. Вне зависимости от того, где это происходит – в пустыне, тайге, на хуторе, в квартире, предельно благоустроенной для современного уровня жизни в крупном городе или в загородном имении. Окружающие не могут проникнуть в этот мир, и потому воспринимают человека и его поведение заведомо неадекватно, что ещё более усугубляет изоляцию.
Спектр возможностей частичного эйдетизма на любом его уровне чрезвычайно широк, и практически любой человек хотя бы какой-то период своей жизни запоминает особенно ярко. И столь же ярко может его воспроизвести в виртуальном наполнении своего внутреннего мира.
Александр Фролов
Люди постепенно стареют – так устроено природой. Как живётся старому человеку и его близким?Общество не любит стариков, и это логично и закономерно. Но что теперь, вводить принудительное самоубийство?Книга поднимает неприятные вопросы о старости и даёт ответы на некоторые из них.
Заблудившиеся во времени
Баллада о старости
Александр Фролов
© Александр Фролов, 2022
ISBN 978-5-0056-7376-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА
Мне около тридцати пяти. Мне нравится моя жизнь. И вообще жизнь нравится. Я успел много чего натворить, и, похоже хорошего больше, чем плохого. У меня есть практически всё необходимое. В процессе жизни сформировались долг? и д?лги, которые надо отдавать. Хотя бы потому, что разные люди, которых уже нет с нами, оставили во мне свои следы, уходящие в Вечность. Я постараюсь отдать. Для этого у меня есть будущее. Я хочу, чтобы мне не было одиноко там, в будущем. И если эта книга поможет выйти туда заблудившимся во времени, я буду ещё более счастлив.
Александр Фролов
Вместо пролога
Детство и юность я провёл в городе Алма-Ате (ныне – Алматы). Город расположен в подковообразном изгибе отрогов хребта Заилийский Алатау. И, как теперь модно говорить, брендом города являлись, да и сейчас являются висящие над ним голубоватые горы, вершины которых покрыты вечными снегами. В ясную погоду снега блестят под солнцем. Ниже снегов – скалы и альпийские луга, ещё ниже – леса знаменитых тяньшанских елей, издали кажущиеся тёмно-зелёным бархатом, прорывая который вырастают эти вершины. Формы вершин совершенно различны – зубчатые пики-стены, во впадинах которых порой видны или угадываются ледники, острые пирамидальные пики. И то ли набегают на всё это великолепие, то ли стекают с него округлые зелёные волны предгорий или, как ещё их называют, «прилавков». Они более светлых оттенков зелёного и тоже кажутся бархатистыми – ни дать, ни взять хемингуэевские «зелёные холмы Африки». На самом деле, как и холмы Африки, предгорья покрыты не столько травой, сколько невысоким, по колено, кустарником, преимущественно колючим. Но расстояние скрадывает эту колючесть, как и острые края скал и их обломков, рисуя завораживающую благостную картину, манящую и притягивающую.
Естественно, с самого детства всё это исследовалось и ощупывалось – постепенно, с возрастом, от прилавков до снегов. И складывалась единая, стройная картина, прекрасная в целом и допускающая увеличение волшебной лупой памяти до отдельных камней, деревьев, кустов и травинок.
Город стоял и стоит на плавно понижающемся ровном склоне хребта, к границе своей выбегая в степь, наклон которой уже практически неощутим. Степь была покрыта травой, а местами серебрилась ковылём. Там жили всякие удивительные животные, некоторые из которых сейчас практически уже вымерли с помощью человека. Такие, например, как страусы наших степей – дрофы. Дальше в степи становилось всё больше песчаных пятен, и она переходила в пустыню с барханами, поросшими саксаулом и своими особенными, пустынными кустарниками. Весной эта пустыня на короткое время покрывалась травой, цветами и булыжниками совершенно одуревших от весны и любви черепах. По барханам ночью носились тушканчики, зайцы, мелкие пустынные лисы и длинноногие ушастые ежи. В пыли редких дорог сидели диковинные ночные птицы. А днём – бегало и ползало множество различных ящериц и змей, оставляя на песке следы, быстро стираемые ветром.
По пустыне протекала большая река, в которой водилась разнообразная рыба. По реке даже ходили небольшие суда.
И весь этот закономерно изменяющийся ландшафт с его населением осваивался, исследовался и записывался в памяти, неистребимо врезаясь в неё.
А потом жизнь продолжалась и наполнялась другими интересами. Менялись места обитания этих интересов – учёбы, работы, семей… Но пейзажи, впечатанные в память, по временам всплывали, проявляясь, как на листе фотобумаги, погружённом в проявитель. Всплывали во сне и наяву яркие чёткие фрагменты реальных пейзажей и происходившие на их фоне события.
По мере удаления во времени и пространстве от любимых мест детства и юности, по мере непрерывно растущей занятости, пейзажи этих мест и времён вытеснялись в сны. И там, в снах, желание сохранить целостность такого прекрасного и ценного мира, привело к удивительному явлению. Начал складываться некий единый пейзаж, который я почти сразу назвал «синтетическим», поскольку он был сюрреалистично синтезирован из достоверных фрагментов. Со временем этот синтетический пейзаж оттачивался, с одной стороны – уточняясь, с другой – обобщаясь. И в конце концов, примерно к моим тридцати годам, практически сложился окончательно.
Вот как он стал выглядеть. Степь – пастельно-зелёная, без каких-либо мелких деталей. Она практически плоская, но очень незначительно, буквально на уровне догадки, всей плоскостью поднимается к горизонту. И там, далеко, плавно, но быстро переходит в одинокий, такой знакомый и в то же время совершенно абстрактный в своей уединённости пик с заснеженной вершиной. Других гор рядом с ним нет, да и вообще внимание сосредоточено только на нём. Ни рамок, ни размытых краёв картины – просто степь, переходящая в гору.
К горе ведёт дорога. Обычная грунтовая дорога, по-видимому, пыльная, желтовато-глинистого цвета, с обычными для такой дороги неровными обочинами. Там, далеко, дорога, слегка извиваясь, уходит на гору, сужаясь в перспективе до невидимости уже к середине горы. Но совершенно очевидно, что она продолжается, постепенно становясь тропой. Наверное, по этой тропе можно зачем-то добраться до вершины. Откуда взялась дорога, кто натоптал тропу – вопросов не возникает. Точнее – они не имеют смысла.
Я всегда в снах чувствую себя находящимся на этой дороге или очень близко к ней. Отражения других реальностей в сиюминутных снах стягиваются к дороге с разных её сторон. Порой именно сюрреалистично – точно в деталях, но совершенно диковинно в сочетаниях. Это может быть заливчик реки Сырдарьи, изобилующий рыбой, какой-то склон, поросший травой и с протекающей по нему каменистой рекой. В другом сне, у другой обочины можно распознать место, похожее на песчаный пляж вблизи посёлка Джемете под Анапой – с толпами людей и другими спутанными и искажёнными реалиями прошлой и будущей жизни. Но никакие из этих видений не пересекают дороги. Она уходит вдаль, к вершине, пустая и независимая.
Интересно то, что со временем – от года к году жизни и от сна к сну про дорогу – я продвигаюсь по ней, медленно, но неотвратимо приближаясь к горе. Иногда задерживаюсь в каком-то месте типа небольшого поселения. Покупаю там старый дом и зачем-то ремонтирую его, обихаживаю участок и сажаю на нём кусты и деревья. И в последующих снах про дорогу опять ухожу по ней. Иногда вспоминаю, что там, позади, есть куда вернуться. Но впереди вдоль дороги, после локальных быстро переживаемых фрагментов, всё такие же пустые обочины до самой горы.
Несколько раз подряд я всё же достигал горы и даже поднимался выше нижнего уровня снегов. Там были крупные неровности рельефа, впадины, подъёмы и повороты, однако тропа каким-то образом угадывалась. Но каждый раз я оттуда возвращался. Причём быстро, на лыжах, хотя никогда не увлекался горными лыжами, да и вообще кататься на лыжах даже с небольших горок не любил. А тут – экстрим, стремительный как побег. Этот период быстро прошёл, и больше так высоко я не забирался.
Последний раз, уже совсем недавно, я побывал в одном из ранее посещавшихся придорожных поселений. Люди, как это бывает в снах, меня не замечали. Окна и двери некогда, в давних снах, отремонтированного старого дома заколочены досками. Но сад! Довольно заросший, он был настоящим садом взрослых, больших деревьев. И это были прямо-таки уже старые вишни сорта, который с детства жил во мне как «алма-атинская черешня». Деревья были просто усыпаны этой черешней. Спелой, тёмной, местами начинающей подсыхать и сморщиваться – никто её не собирал. Помню, как вернулся оттуда на дорогу, так и не попробовав черешни, но не испытывая сожаления. Пока я больше туда не возвращался. А гора была уже совсем близко.
Запретная тема
Это жизнь, и никто из нас не выберется отсюда живым.
Ричард Гир
Так много написано про детство и так замечательно! И рассказывают люди о своём детстве, пусть даже и не очень удачном, но без особенных катастроф, как минимум охотно, а то и с удовольствием. Ещё больше и ещё лучше написано про юность, такую волнительную, первооткрывательскую, эмоциональную. И много ещё какую – большая взрослая жизнь уже на пороге, и там, внутри человека, идёт подготовка к ней. Порой – неудачная, порой – нелепая, но идёт! Дальше – больше. Захватывающая, кажущаяся всемогущей и вечной молодость. Наконец, вся человековедческая культура взлетает на немыслимую высоту в описаниях ранней зрелости – человек может многое, но уже знает, чего хочет, или чего можно хотеть, а чего – лучше не надо. Великий романтик Юрий Кукин всю эту лестницу с её продолжением описал гениально кратко и просто:
Тридцать лет – это время свершений,
Тридцать лет – это возраст вершины,
Тридцать лет – это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся.
Пятьдесят – это так же, как двадцать,
Ну, а семьдесят – так же, как десять!
Что же там, дальше, за этим десятилетним рубежом? А там – табу. Не штучное, мелкое, а сплошное и системное табу. Там начинается страшная страна, имя которой – Старость. И то ли плотный занавес, то ли гильотина отсекают уходящих туда людей от понимания их другими. Всё! Были такими понятными и делали то же, что и все, вместе со всеми. Да и чувствовали, судя по всему, то же, что и остальные, которые теперь остались здесь, с нами. А ушедшие унесли с собой туда, не знаем куда, свой внутренний мир, и так-то доступный лишь по договорённости, а теперь – недоступный вовсе. И никто, никто не хочет узнать, чем живут ушедшие там, внутри себя. Страшно. И их отправляют доживать, дохаживая. Есть такое русское слово, пытающееся отразить эту страшность. Дохаживая, ухаживают и даже заботятся, успокаивая себя и свою совесть отдачей долгов, займов и долгов. А они уже в другом мире, но ещё живые и чувствующие, порой утрачивающие возможность ныне чувствовать, как раньше, а порой – не имеющие на это права по общественным представлениям. И собственное чувствование для них важнее долженствования окружающих. Гораздо важнее.
Что творится в этих седых и лысых головах за густой сеткой морщин на всё менее узнаваемом лице? Сами головы молчат. Почему молчат? Да по одной из двух причин или по обеим сразу. Первая – не умеют, не могут передать своих состояний, переживаний, чувств, желаний. В массовость этого трудно поверить. Должны же быть хотя бы исключения! Ан нет. Вторая – не смеют: не поймут, осудят и лишат покоя даже там, за предпоследней чертой. И это своей безысходностью хуже переживания любой другой сегрегации. Почему не поймут, почему осудят – никто не знает и не говорит. Но это так, и прочный забор из боязни осуждения неясно за что, густо переплетённый застенчивостью даже у тех, кто раньше ею не отличался, – надёжная защита таких удобных всем границ резервации.
Да и описания как обрезало. Запретная пора, запретная тема! Илью Мечникова, основателя современной научной геронтологии, интересовали, прежде всего, продолжительность жизни и здоровье, прячущиеся вместе с микрофлорой в толстом кишечнике. Не входили мироощущения старых в круг его детальных исследований. Да и писал он замечательные «Этюды о природе человека» в пятьдесят шесть лет, сам ещё далеко не долетев до пограничного столба заколдованной страны. Не ударился тогда ещё сам об этот столб.
Николай Амосов с его «Мыслями и сердцем» – всё больше о работе и про здоровье опять же. Но ведь для того, чтобы эффективно работать и быть допустимо здоровым, надо жить, жить «здесь и теперь», ощущая, чувствуя, мечтая, стремясь и надеясь. Согревая и поддерживая тех, кто связан с тобой человеческим общением, и быть согреваемым и поддерживаемым, в какой бы диковинной валюте ни происходил этот обмен. Жить только ради здоровья и работы – это какой-то тоскливый вывертыш очень умного, мудрого, но чрезвычайно напуганного чем-то человека.
Ближе всех, наверное, подобрался к заветному столбу Герхарт Гауптман со своей драмой «Перед заходом солнца» с суицидом в финале в результате травли, чинимой заинтересованными дохаживающими родственниками. Из-за спины Маттиаса Клаузена, семидесяти лет, выглядывает сам семидесятилетний к тому времени Гауптман. Но и его привлекала якобы психологическая канва поведения этих самых родственников, а не внутренние детали чувственных устремлений самого Маттиаса, в том числе – к восемнадцатилетней Инкен. Кстати, вполне обоюдных устремлений. В общем, нездорово как-то, и потому неловко. Зачем это он? Чего ему надо-то, в семьдесят-то лет? А девочка – либо просто странная, либо просто корыстная, либо просто глупая. Хоть и бросилась с пистолетом воевать за уже беспомощного и бесправного. Нет, непонятно, что там было у Маттиаса за глухим забором в голове.
Старость надо встретить как? Досто-о-ойно. Что-то мормонское есть в этом наставлении. То есть, предельно искусственное и неопределённое. Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни» знал, что нужно человеку для достойной встречи старости. Правда, не знал, как дальше жить после этой встречи. Но сам не успел дожить до старости. Достаточно молодым пристрелил его Сухов. Так что про достоинство в старости мы ничего не знаем. Кроме, разумеется, штампов: чистоплотность, коммуникабельность, доброта, отсутствие признаков маразма, ну, и наследодательство, разумеется. Может быть, ещё какие-нибудь менее значимые достоинства обозначатся. Но, избави Бог, не должно быть места недостойным мыслям и желаниям. А тут уж не в старость впавшему определять, что для него достойно, а что – нет. «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит». Тот – это окружение, общество, особенно – ближние, которые присутствовали при гильотинировании и даже принимали в нём участие. А сейчас заняты строительством глухого забора вокруг резервации, как на границе США с Мексикой. Чтобы уж те, кому теперь не следует, не высовывались в нормальную-то жизнь.
Всемирная организация здравоохранения сообщает человеку в его семьдесят пять лет, что он вступил в старость. А окружение – малое и большое – сделало это задолго до того. «Уже не так неутомим (а), работоспособен (-на), грузоподъёмен (-на), быстр (а), сообразителен (-на), памятлив (а)…». Пора знать своё место. Непонятно какое, но пора.
А ведь действительно, «уже не так…». Гормоны устали нахлёстывать лошадей. И ловит себя человек на том, что ему не только не можется, но и просто не хочется того, чего так хотелось раньше. Так уж устроена природа, что она во избежание психических травм пытается мудро и тактично перевести этого человека из состояния «не можется» в состояние «не хочется». Но это происходит в техническом, подвальном этаже деятельности мозга. А в цокольном этаже, в подсознании, живёт память о теле человека. Том теле, которое верой и правдой безотказно служило ему, по-разному в разные периоды жизни. В какие-то периоды служило особенно хорошо.
У мозга во всех проявлениях его деятельности есть только одна генеральная задача: обеспечить выживание нашего тела – этого хрупкого и недолговечного носителя. Поэтому мозг работает исключительно в будущем времени. Нет у него ни настоящего времени, ни прошедшего. И даже память о прошлом – не что иное, как материал для построения ткани будущего. В котором и живёт прошлое, оставаясь полностью виртуальным или же становясь основой новой реальности.
Таким образом, жить или не жить – вот в чём вопрос. Человек, который отрезан от той жизни своего тела, к которой он привык за долгие лучшие для него годы, оказывается без будущего. Нельзя придумать ничего более тягостного. Не утрата или ослабление отдельных функций, пусть даже и значимых ранее, а именно отсутствие будущего. Раннее осознание этого в начальном периоде старости может привести к суициду, форма которого – практически любая в рамках личностного осознанного или подсознательного восприятия проблемы. От выстрела или яда до какой-либо зависимости, однозначно ведущей к ускоренному наступлению смерти. Это мечущийся в поисках решения задачи организации будущей жизни мозг не смог справиться со своей главной обязанностью. Что-то вроде птицы у гнезда: никого она никуда не уводит, никак она не притворяется. Просто одним частям тела поступает от мозга приказ удирать от опасности, а другим – сидеть на гнезде. Такое происходит, если какое-то время в мозге сосуществуют два равновеликих очага возбуждения. Потом всё же срабатывает принцип доминанты, остаётся один очаг, и птица улетает или возвращается к гнезду при отступлении опасности. Но пока она непроизвольно бессильно мечется, расторопный охотник может её поймать. А смерть – расторопный охотник, хотя бы потому, что она необратима. Птица может вырваться из зубов, но не из смерти. Влетевший в «синдром птицы у гнезда» человек бессилен, у него не срабатывают уже компенсаторные механизмы, присущие более молодому возрасту. И сдавшийся мозг отказывается от борьбы, уводя человека по пути наименьшего сопротивления.
Но вот мозг вышел из метаний. Из чего и на чём строить будущее? Поистине страшные возможности человеческой памяти услужливо подсовывают лучшие, наиболее приятные ощущения, именно ощущения, телесной жизни человека из её периодов, которые запомнились как самые яркие по сравнению с остальными. Детальная память в цвете, вкусе, запахе и тактильных ощущениях – это эйдетическая память. Полный эйдетизм – это уже психиатрия. Но психиатрия, являющаяся предельным случаем виртуальной жизни человека в изоляции от новых ощущений.
Частичный эйдетизм позволяет мозгу строить вполне достоверные в плане ощущений картины его будущей жизни. Дело в том, что в потоке сознания ощущения, порождённые воздействием окружающей среды, неотличимы от ощущений, вызванных из памяти. Таковы уж свойства мозга в его взаимоотношениях со временем. Поэтому человек с эйдетическими возможностями в условиях изоляции от требующихся ему ощущений, в первую очередь – связанных с человеческим телесным общением, может жить достаточно полноценной виртуальной жизнью. В таком случае он практически не нуждается в контактах с окружающими, поскольку его виртуальные ощущения ярче предлагаемых ему этим самым окружением. Всё это распространяется и на ощущения, получаемые при взаимодействии с природой. Однако в этом случае реальные ощущения вполне равноправны с виртуальными и никак не зависят от общения с людьми. Поэтому изоляция приобретает добровольный отшельнический характер, и человек удаляется в свой внутренний мир, в котором и живёт более или менее успешно. Вне зависимости от того, где это происходит – в пустыне, тайге, на хуторе, в квартире, предельно благоустроенной для современного уровня жизни в крупном городе или в загородном имении. Окружающие не могут проникнуть в этот мир, и потому воспринимают человека и его поведение заведомо неадекватно, что ещё более усугубляет изоляцию.
Спектр возможностей частичного эйдетизма на любом его уровне чрезвычайно широк, и практически любой человек хотя бы какой-то период своей жизни запоминает особенно ярко. И столь же ярко может его воспроизвести в виртуальном наполнении своего внутреннего мира.