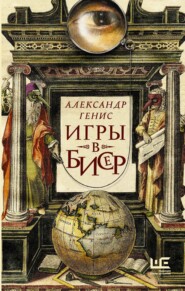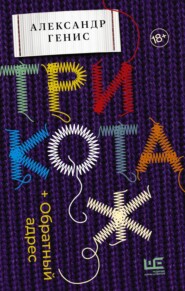По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камасутра книжника. Уроки чтения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я знаю, имею честь знать смелых людей, стесненных бедами, но таких мудрых, чтобы снимали парус в попутный ветер, мне встречать не довелось. Разве что – одного: Горация.
4. Пишется как слышится
Когда Сэлинджер умер, я вспомнил, что он первым научил меня читать книгу так, как будто ее не было.
Я не помню, сколько мне было, но никогда не забуду открытия: литература началась сначала. Все, кого я читал до того, только притворялись. Они делали вид, что пишут так, как другие говорят. Не зная иного способа сочинять книги, я верил книгам. Например, главе “Мальчики” из “Карамазовых”, которая была про меня. И Оскару Уайльду, который писал про тех, кто мне нравился. И даже “Человеку-амфибии”, потому что он жил под водой, дышал жабрами и не говорил вовсе. Мне казалось естественным, что литературный язык не имеет ничего общего с человеческим.
Так оно, в сущности, и есть. Кому нужно, чтобы авторы писали так же, как говорят их читатели? Зачем нужны книги, если они не отличаются от жизни? Словесность для того и существует, чтобы сгущать речь в поэзию. Вся литература – стихи, включая прозу. Чтобы мы этого не замечали, она норовит самоустраниться и выдать себя за невинную. Отсюда – пушкинский Белкин и лермонтовский Максим Максимович, помогавшие авторам симулировать безыскусность.
Этого приема хватает на одно поколение читателей, а потом литературе надо начинать все сначала. Для нас такие книги написали шестидесятники. Больше всего в них ценили сходство с натурой, неприкрашенное жизнеподобие, за которое расстреливали их предшественников. С годами оно, однако, сносилось. В книгах, как в театре, первой стареет интонация: искренность кажется натужной, простота – выспренностью. Поэтому лучшие фильмы той эпохи вроде “Июльского дождя” я смотрю с выключенным звуком: кино честное, но текст звучит выспренно.
Сэлинджер, однако, остался там, где был: за оградой словесности. Читая его, по-прежнему забываешь, что у книги есть автор. Каждый рассказ кажется подслушанным, и не писателем, а тобой. И еще – в Сэлинджере угадывалась непримиримая фронда. Причем бунтом была форма, а содержания не было вовсе. От его прозы оставался вкус во рту: как будто ты только сейчас понял, что тебе всегда врали.
Именно эта беспрецедентная искренность сразила легендарный “Ньюйоркер”, заключившего с Сэлинджером эксклюзивный контракт сразу же после дебюта – рассказа “Хорошо ловится рыбка-бананка”, который мы знаем в знаменитом переводе Райт-Ковалевой.
Десяток страниц, и на каждой пустоты больше, чем строчек, ибо текст – сплошной диалог, но не друг с другом. Беседа Мюриэль с матерью по телефону – экспозиция, которая бегло и неполно вводит нас в курс дела. Разговор Симора с шестилетней Сибиллой подготавливает развязку, делая ее неизбежной. Из первого диалога мы узнаем, что Симор – ненормальный, из второго – видим его безумие в действии, и оно нам нравится. Избегая малейшего давления на читателя, автор сваливает вину за происшедшее на жену – просто потому, что она ничем не отличается от нас. Зато Симор – наш герой. Он живет в живописном вымысле, поверить в который способны только дети… и мы – раз этого требует рассказ.
Шестьдесят лет спустя критики всё еще спорят, почему Симор застрелился. Простодушные пользуются “Лолитой”: герой наказывает себя за вожделение к маленьким девочкам. Других соблазняет психология: Симур обманулся в своей любви к жене, приняв за невинность ее внутреннюю пустоту. Но, по-моему, в рассказе все так ясно, что и конец лишний. Самоубийство уже произошло в конфликте двух диалогов, и дымящийся пистолет – уступка коронеру. Два выведенных в тексте человека принципиально несовместимы – как разные породы. Лишенные общего языка, но запертые в одной клетке, они взаимно исключают друг друга. В этой паре один должен умереть, и понятно – кто, потому что Сибилла – не выход. Она вырастет, превратится в Мюриэль и станет как все.
Чтобы понять, до чего это страшно – быть как все, Сэлинджер заставляет нас вслушаться в разговор матери с дочкой по телефону. Читатель, собственно, и есть этот самый телефон, поскольку мы слышим обеих женщин. Обмен скучными, ничего не значащими, повторяющимися репликами усыпляет нашу бдительность, а потом поздно, потому что мы уже ненавидим Мюриэль не меньше, чем Симор. Виртуозность рассказа – в безошибочном диалоге: чистая эквилибристика, балет на ребре бокала. С тех пор Сэлинджер стал для меня мерой, камертоном достоверности. У него я научился читать Чехова.
* * *
Спектакль дает литературе то, что у нее отнимает бумага, – третье измерение. Зато театр отбирает у автора свободу слова. Закрепощенное в теле, оно обречено носить его, пока не опустится занавес, – даже если тело слову не к лицу.
Это не значит, что Чехову не нужен театр, но обоим от этого не легче. Шекспир на сцене понятнее, чем в книге. Чехов – наоборот. И больше, чем смотреть, я люблю читать его пьесы – по частям, восхищаясь даже не столько репликами, сколько скупыми ремарками, дирижирующими диалогом. Главная из них – пауза. Когда молчание заменяет реакцию, пауза служит немым восклицательным знаком, идет за монологом и означает “сморозил”. Так в “Трех сестрах” каждый раз, когда Вершинин рассуждает о том, какой прекрасной будет жизнь через двести лет, остальные смущенно молчат. В “Вишневом саде” никто не отвечает ни Пете Трофимову, ни Гаеву. И вовсе не потому, что те городят глупости. Напротив, они говорят то, во что верит автор, – и про светлое будущее, и про многоуважаемый шкаф, и про прекрасную и равнодушную природу. Но сокровенное становится смешным, как только мы его выразим.
Чтобы убедиться, попробуйте сами, и выйдет, как Чехов показал. При этом он профанировал только свои любимые мысли – другие того не стоят. О труде у него говорят бездельники, о знаниях – невежды, о будущем – неудачники, и только чеховские врачи, разочаровавшиеся в попытке понять человеческое устройство, никогда не рассуждают и понимают все буквально:
Чебутыкин: …нашу жизнь назовут высокой; но люди всё же низенькие… Глядите, какой я низенький....
Так же – нелепо – Чехов знакомит нас со своими персонажами. Они появляются на сцене врасплох, мелют чушь и не слушают друг друга:
Соленый: Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять…
Чебутыкин: При выпадении волос… два золотника нафталина…
Не удивительно, что в трагическом чеховском театре столько смеются. Вся пьеса – диалог из плохо пригнанных частей. Комический эффект – признак смущения от несовпадения нас с нашей речью. Это неизбежно, ибо в театре все врут. Но в жизни – тем более, только от безвыходности. Мы ведь всегда говорим не то, что думаем, не то, что чувствуем, а то, что можем. Этого отнюдь недостаточно, но делать нечего, и в пьесах Чехова царит сплошное “вместо”. Чтобы не сказать важного или страшного, говорят пустое или бессмысленное, как в домино: “пусто-пусто”.
Примирившись с несовершенством языка, Чехов презирал самонадеянность речи, видел тщету афоризмов и беспощадно истреблял их. Он показал, что сила слов в их слабости. Те, кого Чехов любит, не терпят разговоров:
Маша: Так вот целый день говорят, говорят… Живешь в таком климате, того гляди снег пойдет, а тут еще эти разговоры.
Дело не в том, что разговор к добру не приводит, он вообще ни к чему не приводит, потому что чеховский конфликт в принципе неразрешим. Но сколько можно молчать на сцене? А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища из “Дяди Вани” или У Лукоморья дуб зеленый в “Трех сестрах”. Реплика без содержания – мантра, которая должна остановить поток дурных мыслей, мучающих героя. Чем чернее эпизод, тем менее осмыслено его словесное оформление: несказанное горе – невысказанное. Всякий раз, когда в пьесе появляются ничего не значащие слова, мы задеваем голый нерв драмы. Так, вычеркнув все остальное, писал Беккет. Краткость, впрочем, тоже опасна – она чревата претенциозностью. Вычеркни слишком много, и получится верлибр. Чехов себе такого не позволял, а Беккет мог, но только по-французски: на чужом языке не стыдно.
* * *
Искусство прозрачного письма труднее всего оценить, не говоря уже – освоить, как раз потому, что оно прозрачно. Растворенная в тексте литература приносит себя в жертву – самоуничтожается, и простодушный читатель хвалит автора: как слышит, так и пишет. Но нет для писателя ничего труднее, чем воссоздать на бумаге речь человека, а не персонажа. Люди ведь не говорят предложениями, люди и словами-то не говорят, чаще они ни мычат, ни телятся, но мы все-таки понимаем друг друга, иногда – лучше, чем хотелось бы. Поэтому и в диалоге чем меньше сказано, тем яснее. Многословие передает идею, а человек – это всё, кроме нее, этим он и интересен.
Самая человеческая часть текста – диалог – захватывает больше всего. Его читатель не бросит, не дочитав. Портрет пропустит, рассуждения – тем более, пейзаж – наверняка, но обмен репликами завораживает нас почти механически, как теннис. Зато и уровень автора диалог показывает так наглядно, что по нему легко судить незнакомую книгу. Нигде фальшь так не пагубна, как в диалоге. Строить его надо как карточный домик, причем – из одних шестерок. Слова – неброские, стертые, рядовые, а сооружение – воздушное, элегантное, зыбкое и запоминающееся. Такой диалог нужно читать так же искусно, как писать.
Как? Во-первых, вслух. Во-вторых, повторяя движения говорящего, о чем я догадался в музее, стоя у произведений Джакометти. Он лепил худых, как гвозди, людей, идущих наперекор непреодолимому ветру. Приняв позу статуи, я сразу понял, что хотел сказать автор. Более того, я даже догадался, что эти скульптуры не мог не любить тот же Беккет, который списывал с них своих безнадежных героев.
С литературой – то же самое. Если хотите понять писателя, подражайте его персонажу – мимике, жесту, дыханию. Письмо – головное, голос – физиологичен. Он выходит из тела, даже когда мы говорим от всей души, и выдает правду, о которой мы вовсе не обязательно догадываемся.
Читать диалог нужно так, чтобы ощутить другого, не переставая быть собой. Войдя в роль, мы почувствуем то, для чего автору не хватило слов, и узнаем то, что написано между строк, где прячется настоящая словесность. И если теперь вернуться к рыбке-бананке, то окажется, что у Сэлинджера все понятно с первого слова:
– Алло, – сказала она, держа поодаль растопыренные пальчики левой руки и стараясь не касаться ими белого шелкового халатика – на ней больше ничего, кроме туфель, не было, – кольца лежали в ванной.
Уже с этого “алло” мы догадываемся, что маникюр у Мюриэль на душе, а не пальцах. Но к этому выводу мы должны прийти сами. Стоит пережать, как иллюзия достоверности исчезнет, ширма рухнет, стекло разобьется, и мы сразу обнаружим автора. Одной промашки достаточно, чтобы герои превратились в марионеток, автор – в чревовещателя. Но Сэлинджер не допускал промахов, а когда в самых последних рассказах все-таки допустил, то перестал печататься вовсе.
5. Тяжба
Библию трудно читать, потому что она вся состоит из эпиграфов. Репутация этой книги так велика, что любая выдранная из нее фраза наделяется магической многозначительностью. На Библии клянутся, по ней гадают, с ней – и за нее – умирают. Читать, однако, другое дело. Я пробовал.
С раннего детства я мечтал узнать, что написано в книге, о которой я мог судить лишь по рисункам Жана Эффеля. Но достать Библию мне никак не удавалось, я даже ни разу не встречал верующего. Одна моя бабушка знала, когда Пасха, другая – когда Пейсах. На этом кончались их отношения с религией. Уже женатым, но еще студентом, я отправился за помощью в церковь Александра Невского, располагавшуюся, как все важное в Риге, на улице Ленина, но у священника не нашлось времени на мои вопросы. Выручил черный рынок. Там, в неприметной березовой роще, я наконец купил заветную книгу с рук за 25 рублей. Немалая сумма составляла чуть больше половины стипендии отличника и чуть меньше моей же зарплаты пожарного. Ввиду траты и от нетерпения я принялся читать с середины и зверски заскучал. С начала было не лучше, с конца – непонятней. Я так ее и не дочитал, но за сорок лет, как евреи в пустыне, все время учился. Прежде всего – поэзии.
Библия написана первыми в мире стихами. Напрасно мы от них ждем ясности эпоса. Сродни Луне, а не Солнцу, библейская поэзия все делает зыбким, таинственным, пугающим. Гомер описывал, она выражала. Греки декламировали, она заклинала, они пели, она вводила в транс. Элиот говорил, что смысл – только приманка, усыпляющая разум, чтобы отдать его во власть звука. Повторяясь, стихи заводят, поднимают и ввергают в экстаз. Я видел такое у Стены Плача, где люди молятся, крича и скача, как Давид перед Господом. Библия, словно песенник, требует не чтения, а соучастия. Поэтому и читать ее надо не про себя, а всем телом, жестикулируя и раскачиваясь.
Я догадался об этом, слушая Бродского. Его монотонный распев не помогал, но завораживал, умудряясь почти контрабандой донести лучшее поверх сознания. С тех пор я бормочу библейские стихи, завывая, дирижируя и притоптывая. И помогает! Завладев телом, ритм вколачивает смысл в душу, но для этого стиху всё приходится повторять дважды. Не зря в русской Библии главный знак препинания – точка с запятой. Он делит стих на две равные части, говорящие почти одно и то же по-разному. Поднимая и опуская, эта риторическая волна держит нас на месте, накаляя обстановку и возгоняя чувства, описывая, например, путь человека от рождения к смерти:
Как цветок, он выходит, и опадает;
Убегает, как тень, и не останавливается.
Чтобы никто в упоении не проглотил метафоры, Библия огорашивает ими слушателей. Каждая сразу темна и наглядна. Так, Иову говорят: Уверенность грешника – дом паука. Если сказать “паутина”, пропадет важный для кочевника оттенок. Уверенно раскидывая свой искусный шатер, паук живет, где работает, но только мухам дом его кажется прочным.
Как песню, библейские стихи сперва учишь, а потом, уже полюбив, понимаешь. И это, конечно, самое важное, потому что красота тут – побочный продукт производства. Библия – живая машина нравственности. Она о том, что всегда. Каждый из нас – Адам, многие – Евы, и все – Каин и Авель. Библия – личное дело. И если античности нужны комментарии, то Библии – трактовки, причем – твои. Иначе не интересно, да и не вырасти. Ведь вся эта книга состоит из жгучих вопросов и сокровенных ответов. Задаваясь первыми и толкуя вторые, ты обретаешь точку зрения – ее и свою. Посредников слишком много, и они приходят позже. Библия ведь и сама – внезапная книга, она сразу переходит к сути дела, оставляя подробности на потом. Все важное понятно без посторонней помощи. Ну кто, кроме американцев, изучающих Библию с детского сада до Белого дома, помнит, кто такие великаны-рефаимы? И не надо. Не до подробностей. С Библией говорят о главном, как с Богом – на ты.
Этому тоже надо учиться, потому что по сравнению с Библией все наши книги несерьезные. Даже Толстой с Достоевским чуть подмигивают, ибо сам дух романа требовал от повествователя отчуждения и иронии. Я не про капитана Лебядкина. Насмешлив авторский голос всякого романа: Салон был пущен. Мы просто не умеем ни писать, ни читать без ухмылки, которую Библия еще не изобрела. Ее жанр – трагедия. Но если у греков она учила людей на чужих ошибках, то в Библии трагедия – сама жизнь, что хуже – вся и наша.
* * *
Про Новый Завет я говорить не готов, но и Ветхий – не памятник древней словесности. Центральная в нем, решусь сказать, – книга Иова, ибо она должна оправдать Бога в глазах человека. Если у Него это не получится, то все остальное – насмарку. Теодицея – критерий религии. Говорят, что только переселение душ объясняет наши страдания: расплата за грехи в прошлом рождении. Я понимаю, что такое карма, но отвечать за предков – как-то уж совсем по-сталински. К тому же метемпсихоз требует не меньше веры, чем загробное воздаяние. Зато “Иов” не нуждается в предпосылках и условиях. Эта книга задает единственный вопрос, которого не избежать никому. Более того, Библия на него отвечает.
Страдалец Иов – даже не еврей. Он – абстрактный праведник из какой-то земли Ют, ставший в одночасье несчастным изгоем. Иов – жертва несправедливости, ставка в пари, заключенном Сатаной с Богом. Их, впрочем, тоже можно понять.
Бог Ветхого Завета – разочарованный Бог. Он сделал всё как лучше, но не спас людей от первородного греха. Дальше всё покатилось вниз вплоть до потопа. И первое, что сделал уцелевший Ной, причалив к суше, это напился до бесчувствия. Изменив тотальную тактику на штучную, Бог избрал себе из толпы элиту. Иов – продукт нравственной селекции, плод трудов Господних и высшее среди людей достижение: он безгрешен. Но разве даром богобоязнен Иов? – шепчет умный Сатана, который служит Богу внутренним голосом. Не убедившись в Иове, Бог не может продолжать начатое. А впереди – Исход, Земля обетованная, Иерусалим, Храм, Мессия. Залогом великого будущего служит бескорыстная праведность Иова.
Поэтому Бог разрешил Сатане обобрать Иова, который героически справился с утратами. Лишенный детей, скота и богатства, он, не сказав ничего неразумного о Боге, с каменным достоинством стоика заключает: Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращаюсь. Но смерти, которой он бы обрадовался до восторга, ему тоже не дают. Продолжая экзамен, Сатана требует и получает кожу Иова. Из всех напастей выбрана проказа. Мучительная, но не смертельная, она делает недуг очевидным, а значит, позорным. Это – клеймо грешника, и на него Иов не согласен. Он молча страдал, ворочаясь досыта до самого рассвета, он примирился с тем, что превратился в отвратительные мощи и остался только с кожею около зубов. Не может Иов вынести лишь смеха: Он поставил меня притчею для народа и посмешищем для него. Став, говоря по-нашему, басней, даже анекдотом, Иов не мученик, а грешник, наказанный позорной казнью. И это не честно, ибо тема книги Иова – справедливость.
Бог договорился с человеком, заключив Завет: Он дал нам все, потребовав взамен только одного – праведности. И ее Иов не отдаст даже Богу: Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Однако именно этого требуют от него трое друзей, считавших, как Вышинский, признание – царицей доказательств. Советчики не могут вынести присутствие наказанного без вины. Этот казус взрывает моральную вселенную, покушаясь и на их личную безопасность. Иов, как Бухарин, обязан признаться в несодеянном, чтобы другим не было так страшно. Подлое и не оставшееся без осуждения Бога поведение друзей Иова лишает его последнего терпения и включает самую проникновенную после псалмов библейскую поэзию. Диалог путается, горячится, становится сбивчивым. Обе стороны хвалят Бога и бранят грешников, но Иов, как списанный с него Иван Карамазов, не соглашается принять мир таким, каким Он его устроил. Его, как и Ивана, бесит даже не то, что праведность не вознаграждается, а то, что грешники не наказаны: Они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Ветхий Завет не знал спасения, поэтому вся полнота правосудия должна быть явлена здесь и сейчас. Атеизм – тоже не выход, ибо в книге Иова есть те, кто не признают Божьего закона, но нет тех, кто сомневался бы в Его существовании. Это значит, что автор загнал себя в тупик: он должен ответить Иову. И так, чтобы его слова были достойны Бога.
Иногда я представляю себе этого самого автора – с закинутой головой, выпученными глазами, потной шеей, с пеной в уголках рта. Он занес ногу над вырытой им самим пропастью и шагнул в нее. Кто решится говорить за Бога? И что тут можно сказать? В эту грозную паузу, если уж мы взялись читать Библию, каждый должен поставить себя на место Бога – кто-то же это сделал.
* * *
Для Бога Иов как собака Павлова, которой академик поставил памятник за причиненные муки. Иов необходим для величественного эксперимента, который ставит Бог над людьми. Но к концу книги он уже перестает быть лабораторным животным, нейтральным материалом для опыта. Мы знаем о нем много личного и даже неприятного. Меня, например, слегка коробит хвастовство Иова, подробно вспоминающего свои добрые дела. Милосердие, – выписал я еще в школе из Джека Лондона, – кусок, брошенный псу, когда ты голоден не меньше его. А тут одних верблюдов три тысячи. И чувствуется, что Иов никогда не забывал, какой он важный: После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них. Авторитет. Но это еще не повод для той расправы, которую учинил над ним Бог, пусть даже Он, как наука, поступил так в наших интересах.