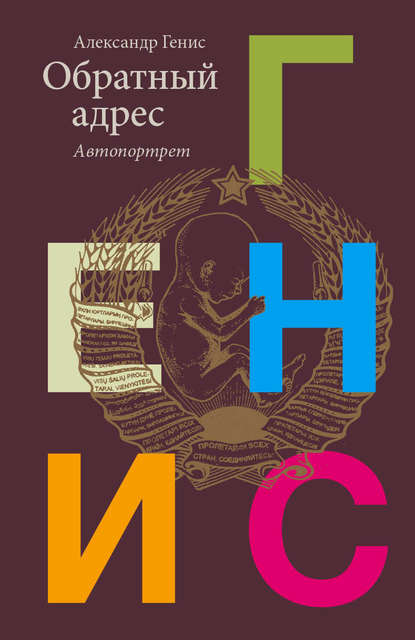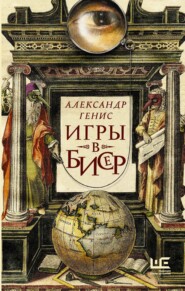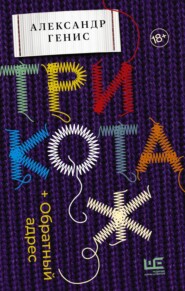По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Обратный адрес. Автопортрет
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От испорченной энциклопедии на всякий случай избавились, но инцидент не отучил моих родителей от любви к книгам в одинаковых обложках. Последним был Гоголь. За ним уже не они, а мы стояли всю ночь в веселой очереди.
У памятника Ленина дорога сворачивала на улицу Ленина, которую мы простодушно называли «Бродвеем». Здесь жила власть. Слева – светская, справа – небесная: планетарий. Под спиленными крестами ложновизантийского собора велась наглядная атеистическая пропаганда. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте, остальные пили кофе в буфете, прозванном «Божье ухо».
Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы: Милда, медная дева с тремя – по числу латышских провинций – звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника Свободе была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста. Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, Свобода с надеждой смотрела на Старую Ригу. От нового города ее отделял древний канал, в котором водились казараги. Колючая рыбка размером с кильку была категорически несъедобна, даже для кошек. Зато она была легкой добычей и ловилась на нитку с узелком вместо крючка.
Углубившись в соблазнительную паутину узких улиц, я каждый раз выбирал себе ту, что гармонировала с погодой, но всегда останавливался у Пороховой башни. Хорошо сохранившаяся, но не находящая себе применения в буржуазной Латвии, она стояла вакантной, пока в ней не поселились голуби.
– Предприимчивый балтийский немец с большой нацистской карьерой Альфред Розенберг, – гласит местная легенда, – начал с того, что откупил у отцов города скопившиеся в башне гуано и продал его с немалой выгодой.
Освободившаяся от птичьего помета башня стала со временем музеем революции, где меня приняли в пионеры – и исключили из них за то, что я кривлялся в исторической достопримечательности.
Отсюда было уже совсем близко. Через Шведские ворота, мимо дома, где жил последний городской палач, на булыжную площадь перед замком. Пройдя мимо миниатюрного Музея зарубежного искусства, где хранились рыцарские доспехи и выставлялся Пикассо из коллекции Эренбурга, я протискивался в переулок, огибавший толстые бока приюта крестоносцев. За его многометровыми стенами с невиданной роскошью расположился дворец пионеров. Возле реки я сворачивал в узкую калитку, поднимался по каменным ступеням и наконец входил в уставленную столами и зонтиками площадку за крепостной стеной. Это и было знаменитое кафе «Пилс», что по-латышски значит «Замок».
Я ходил в него каждый божий день, притворяясь, что живу на Западе, который пришел в «Пилс» лишь тогда, когда я навсегда покинул свой город.
2.
– На таком заработаешь, – саркастически заметил отец моей подруги.
Парикмахер по профессии и пьяница по неискоренимой душевной склонности, он пропивал зарплату, сидя у телевизора. Следя с равным вниманием и бесконечным терпением за речами Брежнева и прогнозом погоды, он все программы называл «хоккеем» и не отрывался от экрана, пока не кончалась выпивка.
В моем случае он был бесспорно прав, потому что в парикмахерскую я не заглядывал с шестого класса, когда меня туда привел недвусмысленный приказ директора школы. В отместку я покрасил шнурки кедов голубой масляной краской. На нее сразу налипла пыль, и шнурки вышли не пестрыми, а грязными. Что тоже годилось, потому что больше всего я хотел быть хиппи, и не когда вырасту, а прямо сейчас. Родители мне не препятствовали, бабушка помогала. Она сшила рубаху-«батник» из ситца в мелкий цветочек и штаны из бордового вельвета, которые вскоре удачно облысели на коленях. О джинсах я и не мечтал. Запредельная, как «Мерседес», роскошь, они были только у моего тезки, чья мать плавала в загранку.
– «Ливайсы», – с напускной скромностью объяснял он, – гарантия – семнадцать лет.
Неровная цифра казалась особо убедительной, но тем же летом штаны лопнули на коленях и нижняя часть отвалилась напрочь.
– Шорты – невозмутимо сказал владелец, – но все равно «Ливайс», и гарантия – та же.
Надо сказать, что Запад знал о нашей страсти и сочувствовал ей. Я выяснил это уже в Америке из сериала «Мак-Гайвер», где вооруженный швейцарским перочинным ножом герой спасает из чекистских застенков великого русского поэта, которого играл мой приятель, удачно перебравшийся из Риги в Голливуд. Опознав в спасителе американца, неназванный поэт, под которым, конечно, подразумевался Бродский, кричит, подпрыгивая от радости: «Я лечу в Америку! У меня будут джинсы!»
– Вранье! – возмутился Карл Проффер, издававший в своем «Ардисе» все книги Бродского, – Джинсы у него и в Питере были – Набоков прислал.
Я, однако, никакого Набокова не знал и жил без джинсов, что, в сущности, было даже к лучшему, ибо роскошь считалась несовместимой с опрощенным бытом хиппи. Теперь я бы определил эту меланхолическую установку с помощью термина утонченной японской эстетики: ваби-саби. Неброские цвета, намеренная угловатость, тусклая заношенность, грубоватая неотделанность, не нарочитая, а не замечающая себя бедность. Признав все это не чуждым отечеству, Москва сегодня назвала «Ваби-саби» сеть дорогих, как, впрочем, всё тут, кафе. Но в мое время ваби-саби царило всегда и всюду, и отличить умышленную бедность от неумышленной нам было труднее, чем самураям.
Вот почему я не стригся. Это был самый простой, но не самый безопасный способ выделиться и перебраться поближе к Западу. Длинные волосы отличались от коротких, как евреи от русских. Они разом и незаслуженно переносили тебя в оппозицию к власти, конечно, не такую роковую, как диссидентство, но еще более очевидную и, пожалуй, не менее раздражающую.
В Риге еще терпели, но в Сочи, куда я добрался, как обычно, на попутных машинах, меня доставили в милицейский участок.
– Постригись – отпустим, – сказал толстый, но отнюдь не добродушный начальник отделения.
– Ни за что, – сказал я, воспитанный на Евтушенко и другой свободолюбивой литературе.
– Тебе же лучше, – неожиданно сменил тон милиционер, – а то за бабу примут.
– Пусть, – не сдался я, и был отпущен на четыре стороны, из которых одну – западную – сторожил катер пограничников.
Не склонившись перед угрозой, я не поддавался уговорам.
– Если тебе есть, что сказать, – говорили взрослые, – мир лучше услышит тебя подстриженным.
– Маркс не стригся, а памятник поставили, – упорствовал я на своем, и от меня отстали все, кроме отца, который и не приставал. Более того, он сам носил бороду, единственный в своем полуштатском институте, где всем полагалась лётная форма. С бородой отец выглядел в ней, как Хемингуэй на фронте.
Но у меня она еще не росла, и я, обходясь черными лохмами, походил на доисторического «Человека из ниоткуда». Так называлась популярная комедия с забытым сейчас, но ощутимым тогда антисоветским подтекстом. Он, впрочем, сопутствовал всему, чем я жил, придавая отчетливый вектор нашим увлечениям, мечтам и досугу. Как все молодые, мы считали себя богемой, хотя пользы и вреда от нас было не больше, чем от казараг из средневекового канала.
3.
Богемой мог считаться только один из моих друзей – Нелаев. Его, как и всех остальных в моем помете, тоже звали Сашей, но в отличие от других он писал не стихи, а картины. За столиком в «Замке» он говорил меньше, а я – больше всех. Чашка кофе стоила 9 копеек, ее хватало до заката, и мы редко покидали кафе раньше.
Сидя под могучей стеной башни-донжона, возведенной орденом меченосцев, я чувствовал себя внутри чужой истории и географии. Заблудившись в непонятных координатах, мы хотели сбежать в еще более причудливые края, о которых пели «Битлс» и рассказывали советские газеты в рубрике «Их нравы». Одну вырезку я носил с собой. В ней шла речь о колонии хиппи. Поселившись на пляже Крита, они жили на донорские заработки, обменивая кровь на хлеб, вино и любовь, естественно – свободную.
– Эдем, – справедливо полагал я, – но не потому, что там не приходилось работать.
Мы все стремились к творческому труду, но дело не шло дальше стихов. Они получались только у одного, написавшего «Хрустальной ягодой во рту моем зима» и угодившего на Аптекарскую, где в жутком районе Красной Двины, русского притока латышской Даугавы, располагался сумасшедший дом. Другие, не зная, о чем пишутся стихи, еще не догадывались, что этого никто не знает. Так и не разобравшись с сюжетом, мы сообща переводили самиздатское либретто мюзикла «Jesus Christ Superstar», из которого впервые узнали подробности недоступного нам источника.
Мечтая стать художником, Нелаев не принимал участия в этом проекте. Бросив школу, как Бродский, он не знал английского, но собирал заграничные альбомы, ради иллюстраций. На них он тратил заработок ученика токаря на заводе гидрометприборов, где он задержался после того, как мы там прошли производственную практику.
Мне завод представлялся страшным испытанием, предостерегающим от нетворческой жизни. Нет ничего скучнее, чем нарезать один длинный прут на много маленьких заготовок неизвестно чего. За 1000 штук платили рубль, но не мне. Меня отставили от станка, когда я загубил третий – уже победитовый – резец. С тех пор я с облегчением бил баклуши в заводском сортире, прячась от старших. Один меня нашел и угостил из прозрачной бутылки от кефира неразбавленным гидролизным спиртом. Большей гадости я не пил, пока не попробовал в Китае дорогую водку «маотай», точно также отдающей паленой резиной.
Нелаев, однако, за работой не скучал, сочиняя в уме картины, сюжетом которых он никогда не делился. Познакомиться с ними мне довелось лишь тогда, когда я побывал у него дома, точнее – в избе. Их в нашем городе называли деревянным зодчеством и охраняли государственным законом и муниципальной ленью. Соединяя в себе черты терема и фавелы, жилье включало сени с бочкой соленых грибов-горькуш, русскую печь и уставленную полированной мебелью светелку с иконой. За стеклами модного серванта, заменявшего неизбежные в других квартирах книжные шкафы, горели суриком картоны будущих фресок. На них улетали от зрителя в звездную ночь тлеющие кресты Голгофы. Схваченные в крутом ракурсе, они, как галактики, разбегались в пустое, еще не знакомое с происшедшим пространство. Миссионеры с искрами, кресты вонзались в космос с азартом баллистических ракет и эффектом атомной бомбы.
– «Джисус Крайст суперстар», – с восторгом сказал я, но Саша не отреагировал, организовывая закуску.
За щедрой, на двадцать яиц, глазуньей с салом он представил родителей, которых я на всякий случай посчитал крестьянами.
– Они у меня дикие, – ласково сказал Саша, – я им зарплату принес, а они мне пиджак купили.
Старики, которыми мне тогда казались все, кто был старше вдвое, мирно улыбались и не протестовали против жизни среди искусства, о котором мы все уже мечтали, но еще не знали, как подступиться.
Саласпилс,
или
Рисунки на полях
Моя литература началась с украденной бумаги, которую приносила мама. Всю рижскую жизнь она, хотя у нее был только один глаз, работала конструктором и создавала многометровые чертежи насосов, необходимых для функционирования атомного реактора, признанного в независимой Латвии категорически ненужным. Он располагался в живописном лесистом пригороде Саласпилсе, где немцы поубивали столько евреев, что советской власти пришлось соорудить им мемориальный комплекс. Евреи, впрочем, там не упоминались. Настоящий автор, Эрнст Неизвестный, как я узнал от него намного позже, – тоже.
В те времена евреи помещались в серой зоне дозволенного, о которой все знают, но не говорят, как о сексе при детях. Считая нас всех недорослями, власть, как моя украинская бабушка, из деликатности называвшая евреев «этим народом», выносила все для себя сомнительное и неприятное в подтекст, что, конечно, любому тексту придавало двусмысленный – оппозиционный или похабный – оттенок.
Именно на этом погорел товарищ моей мятежной молодости, сторонник первобытного коммунизма Зяма Кац. Тайком читая зрелого Солженицына и раннего Маркса, он безуспешно уверял нас, что между ними нет непримиримых различий, но погубило его не это.
Маленький, сутулый, с огромной бородой и пышными бровями, Зяма сам напоминал как Маркса, так и первобытного коммуниста. Он был гордостью наиболее либерального органа нашей западной республики, где его уважали за безмерную эрудицию и принципиальность. Свои глубокомысленные заметки, утяжеленные редкими цитатами из Фурье и Энгельса, он в пику антисемитам подписывал псевдонимом Левин. Но не эта дерзость сокрушила Каца.
Виновниками его падения стали сразу два генеральных секретаря – СССР и Польши. Газета опубликовала снимок, запечатлевший братский поцелуй Брежнева и Герека. Прямо под фотографией был напечатан фельетон с хлестким и абсолютно бессмысленным названием: «Два сапога на одну ногу». Такие заголовки считались привилегией молодежной прессы и служили выхлопом богемной энергии. Например, универсальное название «Бутылка в перчатке» годилось для всех без исключения материалов, написанных в свободном жанре «Взгляд и нечто». Собственно, я до сих пор только такие и пишу. Но Зяму выгнали с треском. Никто не взялся объяснить Кацу природу его преступления, оставляя, как в «Процессе» Кафки, определение вины приговоренному.
Отлученный от прессы Зяма окончательно впал в вольнодумие, отрекся от Маркса и по утрам, когда жена уходила на работу, играл с нами в настольный теннис. Кацы жили в самой старой Риге. Их бесконечная квартира состояла из накопившихся со средневековья мансард и чуланов. Относительно жилой частью был светлый коридор, где помещался стол для пинг-понга. За игрой мы ругали власти, пили сухое, а не крепленое, как вечером, и ждали перемен.
Когда они пришли, меня уже в Риге не было, зато Зяма вынырнул на поверхность общественной жизни и подробно рассказал о случившемся – трижды. Теперь он признался в умышленности своего проступка, ибо уже тогда знал, что Брежнев и Герек – не только сапоги, но и валенки. К тому времени, однако, в независимой Латвии уже забыли обоих, и Зяма, разочаровавшись в свободе, вернулся к Марксу и пинг-понгу.
У памятника Ленина дорога сворачивала на улицу Ленина, которую мы простодушно называли «Бродвеем». Здесь жила власть. Слева – светская, справа – небесная: планетарий. Под спиленными крестами ложновизантийского собора велась наглядная атеистическая пропаганда. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте, остальные пили кофе в буфете, прозванном «Божье ухо».
Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы: Милда, медная дева с тремя – по числу латышских провинций – звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника Свободе была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста. Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, Свобода с надеждой смотрела на Старую Ригу. От нового города ее отделял древний канал, в котором водились казараги. Колючая рыбка размером с кильку была категорически несъедобна, даже для кошек. Зато она была легкой добычей и ловилась на нитку с узелком вместо крючка.
Углубившись в соблазнительную паутину узких улиц, я каждый раз выбирал себе ту, что гармонировала с погодой, но всегда останавливался у Пороховой башни. Хорошо сохранившаяся, но не находящая себе применения в буржуазной Латвии, она стояла вакантной, пока в ней не поселились голуби.
– Предприимчивый балтийский немец с большой нацистской карьерой Альфред Розенберг, – гласит местная легенда, – начал с того, что откупил у отцов города скопившиеся в башне гуано и продал его с немалой выгодой.
Освободившаяся от птичьего помета башня стала со временем музеем революции, где меня приняли в пионеры – и исключили из них за то, что я кривлялся в исторической достопримечательности.
Отсюда было уже совсем близко. Через Шведские ворота, мимо дома, где жил последний городской палач, на булыжную площадь перед замком. Пройдя мимо миниатюрного Музея зарубежного искусства, где хранились рыцарские доспехи и выставлялся Пикассо из коллекции Эренбурга, я протискивался в переулок, огибавший толстые бока приюта крестоносцев. За его многометровыми стенами с невиданной роскошью расположился дворец пионеров. Возле реки я сворачивал в узкую калитку, поднимался по каменным ступеням и наконец входил в уставленную столами и зонтиками площадку за крепостной стеной. Это и было знаменитое кафе «Пилс», что по-латышски значит «Замок».
Я ходил в него каждый божий день, притворяясь, что живу на Западе, который пришел в «Пилс» лишь тогда, когда я навсегда покинул свой город.
2.
– На таком заработаешь, – саркастически заметил отец моей подруги.
Парикмахер по профессии и пьяница по неискоренимой душевной склонности, он пропивал зарплату, сидя у телевизора. Следя с равным вниманием и бесконечным терпением за речами Брежнева и прогнозом погоды, он все программы называл «хоккеем» и не отрывался от экрана, пока не кончалась выпивка.
В моем случае он был бесспорно прав, потому что в парикмахерскую я не заглядывал с шестого класса, когда меня туда привел недвусмысленный приказ директора школы. В отместку я покрасил шнурки кедов голубой масляной краской. На нее сразу налипла пыль, и шнурки вышли не пестрыми, а грязными. Что тоже годилось, потому что больше всего я хотел быть хиппи, и не когда вырасту, а прямо сейчас. Родители мне не препятствовали, бабушка помогала. Она сшила рубаху-«батник» из ситца в мелкий цветочек и штаны из бордового вельвета, которые вскоре удачно облысели на коленях. О джинсах я и не мечтал. Запредельная, как «Мерседес», роскошь, они были только у моего тезки, чья мать плавала в загранку.
– «Ливайсы», – с напускной скромностью объяснял он, – гарантия – семнадцать лет.
Неровная цифра казалась особо убедительной, но тем же летом штаны лопнули на коленях и нижняя часть отвалилась напрочь.
– Шорты – невозмутимо сказал владелец, – но все равно «Ливайс», и гарантия – та же.
Надо сказать, что Запад знал о нашей страсти и сочувствовал ей. Я выяснил это уже в Америке из сериала «Мак-Гайвер», где вооруженный швейцарским перочинным ножом герой спасает из чекистских застенков великого русского поэта, которого играл мой приятель, удачно перебравшийся из Риги в Голливуд. Опознав в спасителе американца, неназванный поэт, под которым, конечно, подразумевался Бродский, кричит, подпрыгивая от радости: «Я лечу в Америку! У меня будут джинсы!»
– Вранье! – возмутился Карл Проффер, издававший в своем «Ардисе» все книги Бродского, – Джинсы у него и в Питере были – Набоков прислал.
Я, однако, никакого Набокова не знал и жил без джинсов, что, в сущности, было даже к лучшему, ибо роскошь считалась несовместимой с опрощенным бытом хиппи. Теперь я бы определил эту меланхолическую установку с помощью термина утонченной японской эстетики: ваби-саби. Неброские цвета, намеренная угловатость, тусклая заношенность, грубоватая неотделанность, не нарочитая, а не замечающая себя бедность. Признав все это не чуждым отечеству, Москва сегодня назвала «Ваби-саби» сеть дорогих, как, впрочем, всё тут, кафе. Но в мое время ваби-саби царило всегда и всюду, и отличить умышленную бедность от неумышленной нам было труднее, чем самураям.
Вот почему я не стригся. Это был самый простой, но не самый безопасный способ выделиться и перебраться поближе к Западу. Длинные волосы отличались от коротких, как евреи от русских. Они разом и незаслуженно переносили тебя в оппозицию к власти, конечно, не такую роковую, как диссидентство, но еще более очевидную и, пожалуй, не менее раздражающую.
В Риге еще терпели, но в Сочи, куда я добрался, как обычно, на попутных машинах, меня доставили в милицейский участок.
– Постригись – отпустим, – сказал толстый, но отнюдь не добродушный начальник отделения.
– Ни за что, – сказал я, воспитанный на Евтушенко и другой свободолюбивой литературе.
– Тебе же лучше, – неожиданно сменил тон милиционер, – а то за бабу примут.
– Пусть, – не сдался я, и был отпущен на четыре стороны, из которых одну – западную – сторожил катер пограничников.
Не склонившись перед угрозой, я не поддавался уговорам.
– Если тебе есть, что сказать, – говорили взрослые, – мир лучше услышит тебя подстриженным.
– Маркс не стригся, а памятник поставили, – упорствовал я на своем, и от меня отстали все, кроме отца, который и не приставал. Более того, он сам носил бороду, единственный в своем полуштатском институте, где всем полагалась лётная форма. С бородой отец выглядел в ней, как Хемингуэй на фронте.
Но у меня она еще не росла, и я, обходясь черными лохмами, походил на доисторического «Человека из ниоткуда». Так называлась популярная комедия с забытым сейчас, но ощутимым тогда антисоветским подтекстом. Он, впрочем, сопутствовал всему, чем я жил, придавая отчетливый вектор нашим увлечениям, мечтам и досугу. Как все молодые, мы считали себя богемой, хотя пользы и вреда от нас было не больше, чем от казараг из средневекового канала.
3.
Богемой мог считаться только один из моих друзей – Нелаев. Его, как и всех остальных в моем помете, тоже звали Сашей, но в отличие от других он писал не стихи, а картины. За столиком в «Замке» он говорил меньше, а я – больше всех. Чашка кофе стоила 9 копеек, ее хватало до заката, и мы редко покидали кафе раньше.
Сидя под могучей стеной башни-донжона, возведенной орденом меченосцев, я чувствовал себя внутри чужой истории и географии. Заблудившись в непонятных координатах, мы хотели сбежать в еще более причудливые края, о которых пели «Битлс» и рассказывали советские газеты в рубрике «Их нравы». Одну вырезку я носил с собой. В ней шла речь о колонии хиппи. Поселившись на пляже Крита, они жили на донорские заработки, обменивая кровь на хлеб, вино и любовь, естественно – свободную.
– Эдем, – справедливо полагал я, – но не потому, что там не приходилось работать.
Мы все стремились к творческому труду, но дело не шло дальше стихов. Они получались только у одного, написавшего «Хрустальной ягодой во рту моем зима» и угодившего на Аптекарскую, где в жутком районе Красной Двины, русского притока латышской Даугавы, располагался сумасшедший дом. Другие, не зная, о чем пишутся стихи, еще не догадывались, что этого никто не знает. Так и не разобравшись с сюжетом, мы сообща переводили самиздатское либретто мюзикла «Jesus Christ Superstar», из которого впервые узнали подробности недоступного нам источника.
Мечтая стать художником, Нелаев не принимал участия в этом проекте. Бросив школу, как Бродский, он не знал английского, но собирал заграничные альбомы, ради иллюстраций. На них он тратил заработок ученика токаря на заводе гидрометприборов, где он задержался после того, как мы там прошли производственную практику.
Мне завод представлялся страшным испытанием, предостерегающим от нетворческой жизни. Нет ничего скучнее, чем нарезать один длинный прут на много маленьких заготовок неизвестно чего. За 1000 штук платили рубль, но не мне. Меня отставили от станка, когда я загубил третий – уже победитовый – резец. С тех пор я с облегчением бил баклуши в заводском сортире, прячась от старших. Один меня нашел и угостил из прозрачной бутылки от кефира неразбавленным гидролизным спиртом. Большей гадости я не пил, пока не попробовал в Китае дорогую водку «маотай», точно также отдающей паленой резиной.
Нелаев, однако, за работой не скучал, сочиняя в уме картины, сюжетом которых он никогда не делился. Познакомиться с ними мне довелось лишь тогда, когда я побывал у него дома, точнее – в избе. Их в нашем городе называли деревянным зодчеством и охраняли государственным законом и муниципальной ленью. Соединяя в себе черты терема и фавелы, жилье включало сени с бочкой соленых грибов-горькуш, русскую печь и уставленную полированной мебелью светелку с иконой. За стеклами модного серванта, заменявшего неизбежные в других квартирах книжные шкафы, горели суриком картоны будущих фресок. На них улетали от зрителя в звездную ночь тлеющие кресты Голгофы. Схваченные в крутом ракурсе, они, как галактики, разбегались в пустое, еще не знакомое с происшедшим пространство. Миссионеры с искрами, кресты вонзались в космос с азартом баллистических ракет и эффектом атомной бомбы.
– «Джисус Крайст суперстар», – с восторгом сказал я, но Саша не отреагировал, организовывая закуску.
За щедрой, на двадцать яиц, глазуньей с салом он представил родителей, которых я на всякий случай посчитал крестьянами.
– Они у меня дикие, – ласково сказал Саша, – я им зарплату принес, а они мне пиджак купили.
Старики, которыми мне тогда казались все, кто был старше вдвое, мирно улыбались и не протестовали против жизни среди искусства, о котором мы все уже мечтали, но еще не знали, как подступиться.
Саласпилс,
или
Рисунки на полях
Моя литература началась с украденной бумаги, которую приносила мама. Всю рижскую жизнь она, хотя у нее был только один глаз, работала конструктором и создавала многометровые чертежи насосов, необходимых для функционирования атомного реактора, признанного в независимой Латвии категорически ненужным. Он располагался в живописном лесистом пригороде Саласпилсе, где немцы поубивали столько евреев, что советской власти пришлось соорудить им мемориальный комплекс. Евреи, впрочем, там не упоминались. Настоящий автор, Эрнст Неизвестный, как я узнал от него намного позже, – тоже.
В те времена евреи помещались в серой зоне дозволенного, о которой все знают, но не говорят, как о сексе при детях. Считая нас всех недорослями, власть, как моя украинская бабушка, из деликатности называвшая евреев «этим народом», выносила все для себя сомнительное и неприятное в подтекст, что, конечно, любому тексту придавало двусмысленный – оппозиционный или похабный – оттенок.
Именно на этом погорел товарищ моей мятежной молодости, сторонник первобытного коммунизма Зяма Кац. Тайком читая зрелого Солженицына и раннего Маркса, он безуспешно уверял нас, что между ними нет непримиримых различий, но погубило его не это.
Маленький, сутулый, с огромной бородой и пышными бровями, Зяма сам напоминал как Маркса, так и первобытного коммуниста. Он был гордостью наиболее либерального органа нашей западной республики, где его уважали за безмерную эрудицию и принципиальность. Свои глубокомысленные заметки, утяжеленные редкими цитатами из Фурье и Энгельса, он в пику антисемитам подписывал псевдонимом Левин. Но не эта дерзость сокрушила Каца.
Виновниками его падения стали сразу два генеральных секретаря – СССР и Польши. Газета опубликовала снимок, запечатлевший братский поцелуй Брежнева и Герека. Прямо под фотографией был напечатан фельетон с хлестким и абсолютно бессмысленным названием: «Два сапога на одну ногу». Такие заголовки считались привилегией молодежной прессы и служили выхлопом богемной энергии. Например, универсальное название «Бутылка в перчатке» годилось для всех без исключения материалов, написанных в свободном жанре «Взгляд и нечто». Собственно, я до сих пор только такие и пишу. Но Зяму выгнали с треском. Никто не взялся объяснить Кацу природу его преступления, оставляя, как в «Процессе» Кафки, определение вины приговоренному.
Отлученный от прессы Зяма окончательно впал в вольнодумие, отрекся от Маркса и по утрам, когда жена уходила на работу, играл с нами в настольный теннис. Кацы жили в самой старой Риге. Их бесконечная квартира состояла из накопившихся со средневековья мансард и чуланов. Относительно жилой частью был светлый коридор, где помещался стол для пинг-понга. За игрой мы ругали власти, пили сухое, а не крепленое, как вечером, и ждали перемен.
Когда они пришли, меня уже в Риге не было, зато Зяма вынырнул на поверхность общественной жизни и подробно рассказал о случившемся – трижды. Теперь он признался в умышленности своего проступка, ибо уже тогда знал, что Брежнев и Герек – не только сапоги, но и валенки. К тому времени, однако, в независимой Латвии уже забыли обоих, и Зяма, разочаровавшись в свободе, вернулся к Марксу и пинг-понгу.