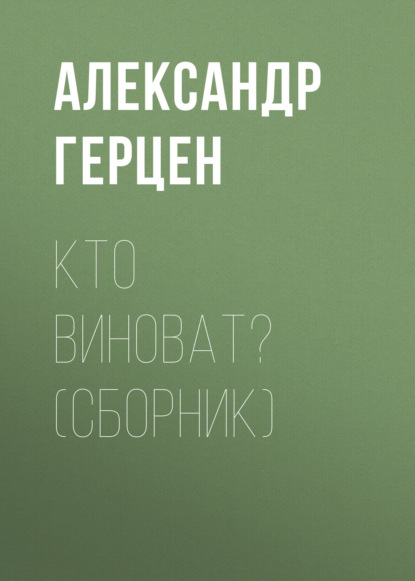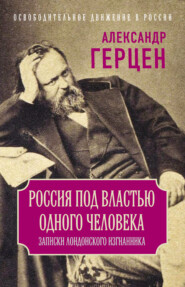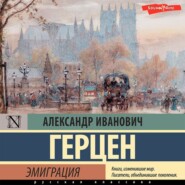По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кто виноват? (сборник)
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не станем винить его; подобные противуестественные добродетели, преднамеренные самозаклания вовсе не по натуре человека и бывают большею частию только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизм, была холодная и узкая: «Она думает, я ничего не вижу, она хитрит, она притворяется». О ком думал он это? О женщине, которую он так любил, так уважал, которую должен бы был знать – да не знал; потом внутренняя тоска, снедавшая его сама по себе, стала прорываться в словах, потому что слова облегчают грусть, это повело к объяснениям, в которых ни он не умел остановиться, ни Любовь Александровна не захотела бы. Тяжело ему стало после разговоров с нею; он миновал быть с нею с глазу на глаз, и между тем в отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоем. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата. В душе его открылась какая-то пустота, которой пределы словно раздвигались с каждым часом и жить с которой было невозможно. Он стал искать рассеяния. Мы видели в журнале, как он возвратился в Иванов день с вечера ученого друга своего, Медузина.
Кстати, для отдыха от патетических мест пойдемте в ученую беседу Медузина и начнем с того, без чего войти в нее нельзя: познакомимся с почтенным хозяином. Знакомство это так приятно, что мы отделим его в новую главу.
VI
Иван Афанасьевич Медузин, учитель латинского языка и содержатель частной школы, был прекраснейший человек и вовсе не похож на Медузу – снаружи потому, что он был плешив, внутри потому, что он был полон не злобой, а настойкой. Медузиным его назвали в семинарии, во-первых, потому что надобно было как-нибудь назвать, а во-вторых, потому, что у будущего ученого мужа волосы торчали все врознь и отличались необыкновенной толщиной, так что их можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и ветер их разнес». Из семинарии Иван Афанасьевич, сверх приятной мифологической фамилии, вынес то прочное образование, которое обыкновенно сопровождает семинаристов до последнего дня их жизни и кладет на них ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшего семинариста во всех нарядах. Аристократические манеры не были отличительным свойством Медузина: он никогда не мог решиться ученикам говорить вы и не прибавлять в разговоре слов, мало употребляемых в высшем обществе. Ивану Афанасьевичу было лет пятьдесят. Сначала он был учителем в разных домах, наконец дошел до того, что завел свою собственную школу. Однажды приятель его, учитель, тоже из семинаристов, по прозванию Кафернаумский, отличавшийся тем, что у него с самого рождения не проходил пот и что он в тридцать градусов мороза беспрестанно утирался, а в тридцать жа?ра у него просто открывалась капель с лица, встретив Ивана Афанасьевича в классе, сказал ему, нарочно при свидетелях:
– А ведь кажется, Иван Афанасьич, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуем его и ныне по принятому уже вами обыкновению?
– Увидим, почтеннейший, увидим, – отвечал Иван Афанасьевич с усмешкою и на этот раз решился почему-то великолепнее обыкновенного отпраздновать свои именины.
Хозяйство Ивана Афанасьевича не было монтировано. Он жил лет пятнадцать безвыездно в NN, но можно было думать, что он только вчера приехал в город и не успел ничего завести. Это было не столько от скупости, сколько от совершенного неведения вещей, потребных для человека, живущего в гражданском обществе. Приготовляясь дать бал, он осмотрел свое хозяйство; оказалось, что у него было шесть чайных чашек, из них две превратились в стаканчики, потеряв единственные ручки свои; при них всех состояли три блюдечка; был у него самовар, несколько тарелок, колеблющихся на столе, потому что кухарка накупила их из браку, два стаканчика на ножках, которые Медузин скромно называл «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутых какой-то грязью, вероятно, чтоб не было сквозного ветра внутри их. Вот и все. А он назвал всех школьных учителей; долго думал он, как быть, и наконец позвал кухарку свою Пелагею (заметьте, что он ее никогда не называл Палагеей, а, как следует, Пелагеей; равно слова «четверток» и «пяток» он не заменял изнеженными «четверг» и «пятница»).
Пелагея была супруга одного храброго воина, ушедшего через неделю после свадьбы в милицию и с тех пор не сыскавшего времени ни воротиться, ни написать весть о смерти своей, чем самым он оставил Пелагею в весьма неприятном положении вдовы, состоящей в подозрении, что ее муж жив. Я имею тысячу причин думать, что толстая, высокая, повязанная платком и украшенная бородавками и очень темными бровями Пелагея имела в заведывании своем не только кухню, но и сердце Медузина, но я вам их не скажу, потому что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Он объяснил ей свое затруднительное положение.
– Эк ведь лукавый-то вас, – отвечала Пелагея, – а туда же, ученые! Как, прости господи, мальчишка точно неразумный, эдакую ораву назвать, а другой раз десяти копеек на портомойное не выпросишь! Что теперь станем делать? Перед людьми-то страм: точно погорелое место.
– Пелагея! – возразил громким голосом Медузин. – Не употребляй во зло терпение мое; именины править с друзьями хочу, хочу и сделаю; возражений бабьих не терплю.
Влияние Цицерона было бы заметно каждому, но Пелагея, взволнованная вестью о празднике, не думала о Цицероне.
– Конечно, мы и замолчим; дело ваше, хоть в окно бросайте деньги, коли блесир[55 - Искаженное фр. plaisir – удовольствие.] доставляет. Дайте пятьдесят рублей, всего искуплю, кроме напитков.
Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ее ответ, а потому, сказавши это, она с глубоким чувством собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала действия своих слов.
– Пятьдесят рублей на эту дрянь! Да ты – того, хватила, что ли, через край? Пятьдесят рублей без напитков! Вздор какой! Баба глупая! Никакого совета не умеет дать! Так ступай же к отцу Иоанникию пригласить его ко мне двадцать четвертого числа и попроси у него посуды на вечер.
– Куда хорошо по дворам шляться за посудою!
– Пелагея! Знакомый тебе это человек? – спросил Медузин, указывая на сучковатую трость в углу.
Пелагея, увидевшись с знакомым, пошла в кухню надеть капот, шелковый платок и потом с ворчанием отправилась к отцу Иоанникию; а Медузин сел за письменный стол и просидел с час в глубокой задумчивости; потом вдруг «обошелся посредством» руки, схватил бумагу и написал, – вы думаете, комментарий к «Энеиде» или к Евтропиевой краткой истории, – и ошибаетесь. Вот он что написал:
После этих антропологических отметок Иван Афанасьевич написал соответственную им программу:
Медузин был доволен сметой: не то чтоб очень дорого, а выпить довольно; сверх того, он ассигновал значительные деньги на покупку визиги для пирогов, ветчины, паюсной икры, лимонов, селедок, курительного табаку и мятных пряников, – последнее уже не по необходимости, а из роскоши.
Гости собрались в седьмом часу. В девять с Кафернаумского шел уже проливной дождь; в десять учитель географии, разговаривая с учителем французского языка о кончине его супруги, помер со смеху и не мог никак понять, что, собственно, смешного было в кончине этой почтенной женщины, – но всего замечательнее то, что и француз, неутешный вдовец, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что он употреблял одно виноградное. Медузин показывал сам пример гостям: он пил беспрестанно и все, что ни подавала Пелагея, – пунш и пиво, водку и сантуринское, даже успел хватить стакан меду, которого было только две бутылки; ободренные таким примером гости не отставали от хозяина; один Круциферский, приглашенный хозяином для почета, потому что он принадлежал к высшему ученому сословию в городе, – один Круциферский не брал участия в общем шуме и гаме: он сидел в углу и курил трубку. Зоркий взгляд хозяина добрался наконец до него.
– Дмитрий Яковлевич, вы-то что же пуншику-то с лимончиком?.. Ну что, право, сидите голову повеся, сами не пьете, другим мешаете.
– Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда не пью.
– И знать, любезнейший мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а с друзьями выпить надобно; дружеская беседа, да… Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче.
Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже не хотел.
Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво пьяный кусок лимону и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтоб отделаться от хозяина, в надежде, что найдет случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивши кого-то за себя поиграть в бостон, подсел к Круциферскому.
– Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренно скажу, ты меня обязал, истинно дружески обязал, а то как в твои лета, сидишь дома назаперти; конечно, у тебя есть там хозяюшка молодая, ну, да ведь надобно же и в свет-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую, – и, не дожидаясь разрешения и несмотря на то, что от него пахло, точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафернаумский, с которого пот лился ручьями. Желая просушить лицо, без явной обиды собрату по просвещению юношества, Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спиною к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до конца ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорят, но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.
– Это старый штук, – говорил француз, посгладивши как-то все русские буквы, – и если Адан не носил рок, то это оттого, что он бил одна мушина в Эден.
– Та, – отвечал Густав Иванович, – та! Этот Пельгтоф, это точна Тон-Шуан, – и через минуту громко расхохотался; минуту эту, по немецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме; добравшись наконец до смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупил с большим довольством: «Ich habe die Pointe, sehr gut!»[56 - Я понял, в чем соль, очень хорошо! (нем.)]
Но наибольшее действие этот рассказ сделал не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слыхал его, то есть на Круциферского. Что это значит – эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это, неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили, – и вот они стоят еще на том же месте, и Густав Иванович продолжает хохотать… Круциферскому показалось, что у него в груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше, и скоро хлынет ртом… Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, он боялся упасть на пол – и прислонился к стене… Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав; он весь содрогнулся; что еще будет? – думал он.
– Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают, – говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другою стакан пуншу, – нет, дружище, припрятался к сторонке, да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери не бери, твоя воля, а взял, так пей.
Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь, – вроде того, как Густав Иванович изучал замечание французского учителя, – наконец смутно понял, в чем дело, взял стакан, выпил его разом и расхохотался.
– Вот люблю, можно чести приписать! Каков? А говорит – не пью, экой хитрец! Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик… Пелагея, – присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным (обходительным) пальцем своим кусок лимона, – еще пуншу да покрепче… Выпьешь?
– Давайте.
– Браво, браво!..
И Медузин только потому не поцеловал Круциферского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментарии: «Кисленькое-то славно, когда фундамент выведен».
Пунш принесли, Круциферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому, что гостям казалось, что весь земной шар дрожит.
Между тем как дело шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графином и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бостон. Медузин был в выигрыше, а следовательно, в самом лучшем расположении духа.
– Полноте, полноте! – кричал он. – Пойдемте-ка лучше да с божьим благословением хватимте кантафресного.
Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным, почему – не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам.
Гости отправились к столу.
– Дмитрий Яковлевич! Уж, верно, ты не откажешься и от кантафресного?
– Давайте и кантафресного, – отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковерные люди, для желудка.
Восторг гостей был неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирог с визигой… Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером валтасаровского празднества, которым Медузин праздновал свое тезоименитство; тем более не считаю нужным описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлении и на тех же основаниях.
На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной; она поднялась в его глазах опять так высоко, так недосягаемо высоко; он был способен понять и оценить ее… но что-то отлетело между ними, и страшная мысль: «об этом говорят» – уничтожала его. Он, впрочем, насчет этого не сказал ей ни слова; ему было тяжело с ней говорить, и он торопился в гимназию; пришедши туда прежде окончания другой лекции, он стоял у окна в рекреационной зале. Давно ли он так спокойно смотрел из этого окна, давно ли, на верху человеческого счастия, он так торопился бежать домой? И вдруг все переменилось: он хотел бы бежать из дому… и между тем он был подавлен ее величием и силой, он понял, что она страдает не меньше его, но что она скрывает эти страдания из любви к нему… «Из любви ко мне! Но разве она любит меня, разве можно любить бревно, лежащее на дороге к счастью?.. Зачем я не умел скрыть, что все знаю; если б я был осторожнее, она не столько бы страдала, а я все сделал бы, чтоб она была счастлива; но что же делать; бежать, бежать – куда?..»
Его остановил Анемподист Кафернаумский. Он, видимо, еще не оправился от вчерашнего раута; глаза у него были красны и окружены каким-то пухлым кругом, как бывает луна зимою в морозные дни, на щеках и носу проступали сизые пятна.
– Что, почтеннейший, – сказал Кафернаумский, отирая пот с лица, – трещит?
Круциферский промолчал.
– Я сам едва жив.
Видала ль ты обломки корабля? Видала, но почто? Се жизнь теперь моя…
Каков-с Медузин-то? Старый пес, расходился как! Да вы, Дмитрий Яковлевич, поправлялись? То есть клин клином-то…