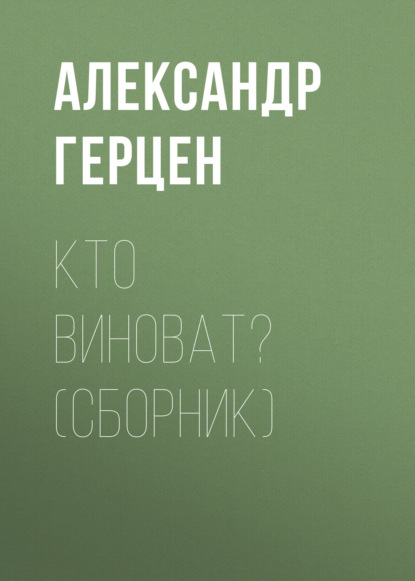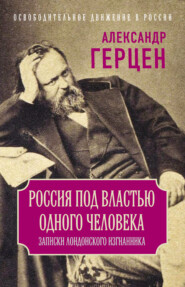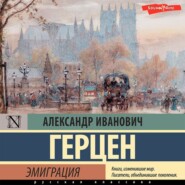По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кто виноват? (сборник)
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как, поправлялся ли?
– А вот я вам покажу как; и видно, что еще новичок! Пойдемте-ка ко мне. Я ведь тут возле живу, —
Ради рома и арака Посети домишко мой.
Круциферский отправился к Кафернаумскому. Зачем? Этого он сам не знал. Кафернаумский вместо рома и арака предложил рюмку пеннику и огурцы. Круциферский выпил и к удивлению увидел, что, в самом деле, у него на душе стало легче; такое открытие, разумеется, не могло быть более кстати, как в то время, когда безвыходное горе разъедало его.
Часов в десять с небольшим Семен Иванович Крупов явился в небольшую залу «Города Кересберг» и принялся прохаживаться взад и вперед, с лицом озабоченным и сердитым. Минут через пять дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий, со щеткой в руке и с пальто на руке.
– Что, небось еще спит?
– Сейчас проснулись, – отвечал Григорий.
– Скажи ему, что я пришел и имею до него дело.
– Семен Иванович! – закричал Бельтов. – Семен Иванович! Милости просим, – и показался в дверях.
– Имеете вы, – спросил он, – полчаса времени для меня?
– Хоть целый день! – отвечал Бельтов.
– Да не помешал ли я вам? Вы, кажется, по утрам занимаетесь политической экономией, что ли?
Старик нисколько не скрыл иронический тон вопроса.
– Вы, кажется, сегодня и рано встали с постели, да только левой ногой, – заметил Бельтов, до высочайшей степени кротко принимавший замечания старого ворчуна.
– Стало, я встал с той ноги, с которой хотел.
– Итак, – сказал Бельтов, указывая на дверь.
Крупов молча вошел в нее.
– Владимир Петрович! – начал Крупов, и сколько он ни хотел казаться холодным и спокойным, не мог, – я пришел с вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о том, что делаю. Больно мне вам сказать горькие истины, да ведь не легко и мне было, когда я их узнал. Я на старости лет остался в дураках; так ошибся в человеке, что мальчику в шестнадцать лет надобно было бы краснеть.
Бельтов смотрел на старика с удивлением.
– Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем, а там что будет, не мое дело; я стар, однако трусом меня никто не назовет, да и я, из трусости, не назову неблагородного поступка – благородным.
– Послушайте, Семен Иванович! Я уверен, что вы не трус, да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса, но мне бы очень было неприятно стать в необходимость доказывать это вам, которого я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сделаемте условие не употреблять грубых выражений; они имеют странное свойство надо мной: они меня заставляют забыть все хорошее в том, кто унижается до ругательств. Бранью вы ничего не объясните, а потому к делу, и извините за aviso[57 - предупреждение (ит.).].
– Хорошо-с; я буду, милостивый государь, вежлив, чрезвычайно вежлив. Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить – знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом четырех несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью; вас приняли, как родного, вас отогрели там, а вы чем отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, не знаю, в воде или вине; она будет в чахотке, за это я вам отвечаю; ребенок останется сиротою на чужих руках, и, в довершение, весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить!
Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова.
– А может, вам это ничего, с высшей точки зрения, – прибавил он, погодя немного.
Бельтов встал с дивана и быстро ходил по комнате; потом он вдруг остановился перед стариком.
– Позвольте мне вас теперь спросить: кто вам дал право так дерзко и так грубо дотрогиваться до святейшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнее других? Но я забываю ваш тон; извольте, я буду говорить. Что вам от меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! Тысячу раз повторяю вам: я люблю всеми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?
– Так зачем же вы ее губите? Если б вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы заметить своей любви! Зачем вы не оставили их дом? Зачем?
– Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, не знаю! Может, для того, чтоб сгубить эту семью, чтоб погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко и спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании. Извольте, я буду отвечать на ваши вопросы. Да! Я чувствую теперь потребность не оправдываться, – я не признаю над собою суда, кроме меня самого, – а говорить; да сверх того, вам нечего больше мне сказать: я понял вас; вы будете только пробовать те же вещи облекать в более и более оскорбительную форму; это наконец раздражит нас обоих, а, право, мне не хотелось бы поставить вас на барьер, между прочим, потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины.
– Говорите, говорите; я буду слушать.
– Я приехал сюда в одну из самых тяжелых эпох моей жизни. В последнее время я расстался с заграничными друзьями; здесь не было ни одного человека, близкого мне; я толкнулся к некоторым в Москве – ничего общего! Это укрепило меня еще более в намерении ехать в NN. Вы знаете, что здесь было и весело ли я жил. Вдруг я встречаю эту женщину… Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсем не знаете, так точно, как не знаете меня. Вы дорого оценили ее семейное счастье, ее любовь к мужу, к ребенку – только; не сердитесь – есть минуты, в которые говорят не одни сладкие истины… Не думайте, чтобы внешняя близость или число лет распечатывали душу одного другому, – нисколько! Очень часто людей, живших лет двадцать вместе, в гроб кладут чужими, а иногда они и любят друг друга, да не знают, а братственное сочувствие в один миг раскрывает в десять раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз, а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнию, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, – были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встречался, у каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрез который он пересадить не может; в ней я не видел этого горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали!.. Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился? Это, наконец, становится смешно, столько благоразумия у меня нет. Да и потом это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял – было поздно.
– Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну, что же дальше?
– Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам.
– Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности.
– Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждал, чтоб вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзии и упоенья, прошла, что эту женщину затерзают… потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь – мания; он себя погубит этой любовью, что ж с этим делать?.. Хуже всего, что он и ее погубит.
– Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого?
– Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал; каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она.
– По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать и что до вашего приезда она была счастлива.
– Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают; как это вы так непоследовательны?!
– Право, это дело мудреное! Ох, то-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь – вещь преопасная, да проповедовал, как Иоанн в пустыне; никто меня не слушал. Хоть бы вы из сострадания просто…
– Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите? После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое безвыходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете, а чего мне это стоило, знаю я; двадцать раз принимался я писать к ней – и, боясь ухудшить ее состояние, не писал; я бывал у них – и молчал; в чем же вы меня упрекаете, что вы хотите от меня, надеюсь, что не простое желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне?
– Владимир Петрович, ну, докажите же, что вы сильный человек; я верю, что вам это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву… А мы, может, спасем эту женщину; Владимир Петрович, уезжайте отсюда!..
И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жесткость… голос у старика дрожал. Он любил Бельтова.
Бельтов открыл свой портфель, порылся в бумагах и подал ему начатое письмо.
– Прочтите, – сказал он.
Письмо было к матери; он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу и притом очень скоро.
– Вы видите, я еду. И вы думаете, что вы спасете ее этим, – спросил он грустно, качая головой, – добрейший Семен Иванович?
– Да что же делать? – спросил Крупов с каким-то отчаянием.
– Не знаю, – отвечал Бельтов, – Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам, вы отдадите, честное слово?
– Отдам, – отвечал Крупов.
Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей.