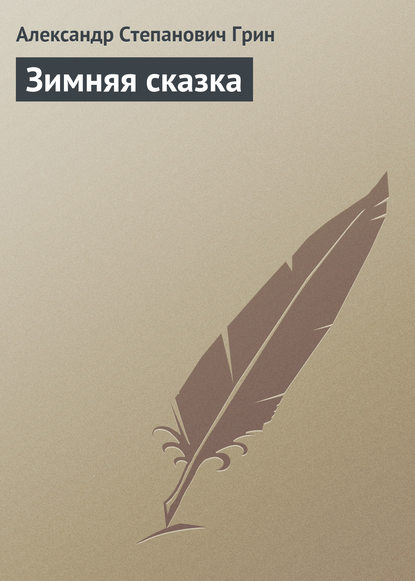По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зимняя сказка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зимняя сказка
Александр Грин
Жизнь политических ссыльных на дальнем Севере.
Александр Степанович Грин
Зимняя сказка
Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.
Редклиф
I
Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.
Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:
– Я это, Ячевский: можно?..
За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне… где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу… слышишь… надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:
– Извините, Пестров, я помешал… супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.
– А, да… ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.
– Вот как… живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.
– Вы… выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар… впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару… булочная, кажется, заперта… Нет.
– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет… я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?
– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.
За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.
– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.
– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.
Ячевский приятно улыбнулся и встал.
– Да, это хорошо, – сказал он, – ну… будьте здоровы, извините.
– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите… нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.
Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:
– Хорошо, я… спасибо… – и вышел на улицу.
II
Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?
– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?
– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.
– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.
В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.
– А вы как? Что нового? – сказал он.
– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.
– Ты видел?
– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.
Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.
Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:
– Гангулин, вы спите?
– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.
Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:
– Я раньше был очень разговорчив и сообщителен, а теперь выветрился.
– Почему? – рассеянно спросил Кислицын.
– А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах – прохладное состояние души.
– Слушайте, – после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, – вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню – что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, – как мне показалось спросонок, заключавший в себе что-то лихорадочно важное, – пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться – среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее… На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов – я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.
Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.
– Это мистика, – наставительно произнес Гангулин, – а ты – тоскующий белый медведь!
Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.
– Нет, правда, что же это может быть, – сказал он, – «тоска, зверь, белое»?
– Бывает, – тихо заметил Ячевский, – еще и не то в тишине. Бывает иногда… – Он смолк и быстро закончил: – Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.
– Ну, – сказал Гангулин, – только не страшное.
Александр Грин
Жизнь политических ссыльных на дальнем Севере.
Александр Степанович Грин
Зимняя сказка
Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.
Редклиф
I
Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.
Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:
– Я это, Ячевский: можно?..
За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне… где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу… слышишь… надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:
– Извините, Пестров, я помешал… супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.
– А, да… ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.
– Вот как… живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.
– Вы… выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар… впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару… булочная, кажется, заперта… Нет.
– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет… я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?
– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.
За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.
– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.
– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.
Ячевский приятно улыбнулся и встал.
– Да, это хорошо, – сказал он, – ну… будьте здоровы, извините.
– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите… нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.
Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:
– Хорошо, я… спасибо… – и вышел на улицу.
II
Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?
– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?
– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.
– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.
В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.
– А вы как? Что нового? – сказал он.
– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.
– Ты видел?
– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.
Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.
Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:
– Гангулин, вы спите?
– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.
Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:
– Я раньше был очень разговорчив и сообщителен, а теперь выветрился.
– Почему? – рассеянно спросил Кислицын.
– А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах – прохладное состояние души.
– Слушайте, – после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, – вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню – что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, – как мне показалось спросонок, заключавший в себе что-то лихорадочно важное, – пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться – среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее… На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов – я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.
Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.
– Это мистика, – наставительно произнес Гангулин, – а ты – тоскующий белый медведь!
Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.
– Нет, правда, что же это может быть, – сказал он, – «тоска, зверь, белое»?
– Бывает, – тихо заметил Ячевский, – еще и не то в тишине. Бывает иногда… – Он смолк и быстро закончил: – Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.
– Ну, – сказал Гангулин, – только не страшное.