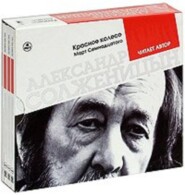По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красное колесо. Узел 2. Октябрь Шестнадцатого. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа: проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо освещало жёлто-бурую кущу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну над Колдычевским озером.
Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились – и накрыть.
Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.
Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия – это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой – из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.
– Сколько вам снарядов на пристрелку?
– Четыре…
При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.
– Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареей сколько времени будете переходить?
Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.
– Минуты три.
– Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и угломеру.
Лаженицын удивился:
– Всё буду я? стрелять?
– Вы. Сколько вам нужно снарядов?
Опять с осторожным замедлением:
– Сорок?
– Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.
Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не жалей!». Не Пятнадцатый год.
А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, стрелять по огню. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить военное министерство, но набиравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: «Второе!» – «Третье!» – «Четвёртое!», как делалось во всей российской артиллерии, – тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правей себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной – и все командиры взводов освобождались для работы пополезней.
Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне – природное мужское свойство и в любом его можно разбудить и развить.
Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.
Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И – лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, – «беглый! огонь!!» – утысячеряется в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых кольев – всё хитромудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух – на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь… гордость?..
Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон подполковника:
– Нич-чего…
И жалко, что всё это – демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.
А под шинелью на груди – Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А возносительней того – георгиевский крест за пожарный миг на батарейной позиции. Этот свеженький Георгий в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.
Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьюдесятью снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.
А как-то – неощутимо.
А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.
Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлиняли выстрел, захватывали лишних две версты в глубину неприятеля.
Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере карте-двухвёрстке, где спичкой называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.
Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтового воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.
Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к стволовичскому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.
Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчинённо, а – даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смышлёность и пригодность к делу поднимали Саню.
Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли отчего: за двух– или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.
Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.
Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть Государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ Главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался безсмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев – но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, некем заменить отпускников – но разные виды недостач испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, – нет! Высокий далёкий Главнокомандующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, – опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.
Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное – во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон – очерёдный, внеочерёдный, – а вот отрубили! Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:
– Господин полковник, осмелюсь ещё раз… С Благодарёвым… Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что… именно для него?
Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:
– Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он – может отпустить, на свой риск. Я пожалуй… – подумал, – обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.
Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:
– Вот спасибо, вот выручили, господин полковник!
Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе «спасиба» не бывает.
Ушли с ординарцем, ещё долго – по ходам сообщения.
Поработали как будто и ничего. Всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя – кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже недостало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.
На нынешнем участке, под Крошином, держали немцы против Гренадерского корпуса – всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, – а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев – тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левей Дубровны, был обнаружен… в Румынии! Там обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили… Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.
Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевельнуться меньше, чем целым фронтом. Оставались – поиски и демонстрации.
Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все потравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке – он был внезапно освещён прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 гренадеров и двух офицеров.
Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах – граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в маньчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ, и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования – то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не отличавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой – под Тарнавкой, остальные – по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав – и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. (Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии.) За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.
Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились – и накрыть.
Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.
Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия – это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой – из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.
– Сколько вам снарядов на пристрелку?
– Четыре…
При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.
– Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареей сколько времени будете переходить?
Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.
– Минуты три.
– Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и угломеру.
Лаженицын удивился:
– Всё буду я? стрелять?
– Вы. Сколько вам нужно снарядов?
Опять с осторожным замедлением:
– Сорок?
– Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.
Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не жалей!». Не Пятнадцатый год.
А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, стрелять по огню. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить военное министерство, но набиравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: «Второе!» – «Третье!» – «Четвёртое!», как делалось во всей российской артиллерии, – тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правей себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной – и все командиры взводов освобождались для работы пополезней.
Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне – природное мужское свойство и в любом его можно разбудить и развить.
Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.
Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И – лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, – «беглый! огонь!!» – утысячеряется в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых кольев – всё хитромудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух – на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь… гордость?..
Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон подполковника:
– Нич-чего…
И жалко, что всё это – демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.
А под шинелью на груди – Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А возносительней того – георгиевский крест за пожарный миг на батарейной позиции. Этот свеженький Георгий в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.
Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьюдесятью снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.
А как-то – неощутимо.
А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.
Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлиняли выстрел, захватывали лишних две версты в глубину неприятеля.
Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере карте-двухвёрстке, где спичкой называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.
Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтового воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.
Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к стволовичскому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.
Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчинённо, а – даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смышлёность и пригодность к делу поднимали Саню.
Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли отчего: за двух– или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.
Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.
Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть Государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ Главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался безсмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев – но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, некем заменить отпускников – но разные виды недостач испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, – нет! Высокий далёкий Главнокомандующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, – опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.
Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное – во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон – очерёдный, внеочерёдный, – а вот отрубили! Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:
– Господин полковник, осмелюсь ещё раз… С Благодарёвым… Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что… именно для него?
Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:
– Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он – может отпустить, на свой риск. Я пожалуй… – подумал, – обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.
Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:
– Вот спасибо, вот выручили, господин полковник!
Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе «спасиба» не бывает.
Ушли с ординарцем, ещё долго – по ходам сообщения.
Поработали как будто и ничего. Всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя – кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже недостало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.
На нынешнем участке, под Крошином, держали немцы против Гренадерского корпуса – всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, – а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев – тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левей Дубровны, был обнаружен… в Румынии! Там обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили… Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.
Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевельнуться меньше, чем целым фронтом. Оставались – поиски и демонстрации.
Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все потравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке – он был внезапно освещён прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 гренадеров и двух офицеров.
Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах – граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в маньчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ, и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования – то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не отличавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой – под Тарнавкой, остальные – по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав – и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. (Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии.) За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.