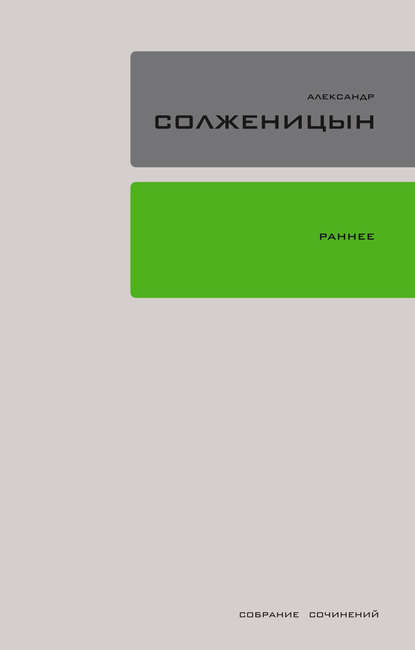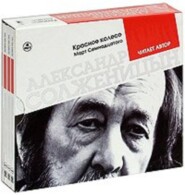По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раннее (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лишь неудачи и страданья
В его скитаниях сплелись.
За сорок лет, в очках и лыс,
То захолустных пошлых театров
Излишне чуткий декоратор,
То разрисовщик по фарфору,
А то и вовсе не у дел,
Он странно нравиться умел
Проникновенным разговором,
Больным чутьём, вниманьем добрым,
Уменьем видеть красоту
И смело бросить яркий образ
В души смятенной темноту.
В разгаре ужин был, но спать
Нас с Мишей слали со средины.
Удел жестокий! Там в гостиной,
Ещё сойдутся танцевать,
Олег Иваныч меж гостями
Разыщет жертву – полной даме
Платком глаза схватят вплотную,
И все, как дети, врассыпную, –
Бродить на ощупь в Опанаса,
Шарады в лицах представлять
И в Папу Римского играть.
В расчётах тонких преферанса
В углу, за ломберным столом,
Сойдутся старшие кружком;
И строки грустного романса
Учитель живописи Лялин,
Склонясь над зеркалом рояля,
Споёт:
«Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,
Вы можете смеяться и шутить!..
А я старик седой, я пережил так много…»{52}
И всё,
И это тоже всё
Оборвалось…
–
…Вечером как-то спешил я к их дому,
Слякотью мартовской, поздней зимой, –
Перед дверьми их стоял незнакомый
Автомобиль легковой.
Тускло желтелся в дожде-косохлёсте
С визгом качаемый ветром фонарь –
Дверь отворилась – и странные гости
Вышли в ночную недобрую хмарь:
В гладких пальто одинаковых двое,
С поднятым чёрным воротником,
И между ними – отец, расстроен,
С беленьким узелком.
Видя меня – он не видел. И сердце
Сжалось, предчувствуя быль.
Вспыхнули фары – хлопнули дверцы –
Брызгая, вырвался автомобиль…
В дому ещё дымилось жертвоприношенье
Каким-то злым, неведомым богам…
Лежали в грудах книги после потрошенья
И оползнями рушились к ногам.
Ковры комком. Столы и шкафы – настежь.
Бельё, посуда и постели в кучи свалены.
И – шкура на полу.
Как будто этой вот ощеренною пастью
Медведь налютовал, сорвавшись со стены.
Здесь сутки обыск шёл. А найден был лишь снимок
И унесён трофеем он один:
Съезд энергетиков; меж ними –
И Федоровский, и… Рамзин[3 - Л. К. Рамзин – в 1930 был осуждён как «глава Промпартии».].
Кто б знал тогда, что не удастся навести
В квартире этой – раз разрушенный уют?
Лиха беда – беде прийти,
А пабедки добьют{53}.
Исчез, как канул зять. И тёща в тех же днях
Была параличом разбита.
Недели не прошло – и Миша на коньках
Упал – ударился – сгорел от менингита.
В их мрачный дом, потуплен и стеснён,
Я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала немо:
Ведь вот, ты жив. Ты – жив. Зачем же он?
Зачем же он так рано взят на небо?
Но заболела Ляля. И
В день солнечный, скача через ручьи,
В день, бурно лившийся водою талой,
Я к ней пришёл. Она одна лежала,
Худые руки белые за головой держала,
Рукав халата повисал крылом безсильным птицы,
Сползала книга с одеяла.
И вздрогнула: «Серёженька! Иди сюда, мой рыцарь!
Что долго не был ты? Я так тебя ждала.
Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен!
Ну, расскажи – как школа? Я давно там не была…
Погода как? Снег почернел? И лужи?..
Шёл ночью дождь. Я ночью не спала,
К окну вставала, слушала из темноты,
Как трубы водосточные шумели…
Скажи, дружок, а ты…
В его скитаниях сплелись.
За сорок лет, в очках и лыс,
То захолустных пошлых театров
Излишне чуткий декоратор,
То разрисовщик по фарфору,
А то и вовсе не у дел,
Он странно нравиться умел
Проникновенным разговором,
Больным чутьём, вниманьем добрым,
Уменьем видеть красоту
И смело бросить яркий образ
В души смятенной темноту.
В разгаре ужин был, но спать
Нас с Мишей слали со средины.
Удел жестокий! Там в гостиной,
Ещё сойдутся танцевать,
Олег Иваныч меж гостями
Разыщет жертву – полной даме
Платком глаза схватят вплотную,
И все, как дети, врассыпную, –
Бродить на ощупь в Опанаса,
Шарады в лицах представлять
И в Папу Римского играть.
В расчётах тонких преферанса
В углу, за ломберным столом,
Сойдутся старшие кружком;
И строки грустного романса
Учитель живописи Лялин,
Склонясь над зеркалом рояля,
Споёт:
«Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,
Вы можете смеяться и шутить!..
А я старик седой, я пережил так много…»{52}
И всё,
И это тоже всё
Оборвалось…
–
…Вечером как-то спешил я к их дому,
Слякотью мартовской, поздней зимой, –
Перед дверьми их стоял незнакомый
Автомобиль легковой.
Тускло желтелся в дожде-косохлёсте
С визгом качаемый ветром фонарь –
Дверь отворилась – и странные гости
Вышли в ночную недобрую хмарь:
В гладких пальто одинаковых двое,
С поднятым чёрным воротником,
И между ними – отец, расстроен,
С беленьким узелком.
Видя меня – он не видел. И сердце
Сжалось, предчувствуя быль.
Вспыхнули фары – хлопнули дверцы –
Брызгая, вырвался автомобиль…
В дому ещё дымилось жертвоприношенье
Каким-то злым, неведомым богам…
Лежали в грудах книги после потрошенья
И оползнями рушились к ногам.
Ковры комком. Столы и шкафы – настежь.
Бельё, посуда и постели в кучи свалены.
И – шкура на полу.
Как будто этой вот ощеренною пастью
Медведь налютовал, сорвавшись со стены.
Здесь сутки обыск шёл. А найден был лишь снимок
И унесён трофеем он один:
Съезд энергетиков; меж ними –
И Федоровский, и… Рамзин[3 - Л. К. Рамзин – в 1930 был осуждён как «глава Промпартии».].
Кто б знал тогда, что не удастся навести
В квартире этой – раз разрушенный уют?
Лиха беда – беде прийти,
А пабедки добьют{53}.
Исчез, как канул зять. И тёща в тех же днях
Была параличом разбита.
Недели не прошло – и Миша на коньках
Упал – ударился – сгорел от менингита.
В их мрачный дом, потуплен и стеснён,
Я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала немо:
Ведь вот, ты жив. Ты – жив. Зачем же он?
Зачем же он так рано взят на небо?
Но заболела Ляля. И
В день солнечный, скача через ручьи,
В день, бурно лившийся водою талой,
Я к ней пришёл. Она одна лежала,
Худые руки белые за головой держала,
Рукав халата повисал крылом безсильным птицы,
Сползала книга с одеяла.
И вздрогнула: «Серёженька! Иди сюда, мой рыцарь!
Что долго не был ты? Я так тебя ждала.
Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен!
Ну, расскажи – как школа? Я давно там не была…
Погода как? Снег почернел? И лужи?..
Шёл ночью дождь. Я ночью не спала,
К окну вставала, слушала из темноты,
Как трубы водосточные шумели…
Скажи, дружок, а ты…