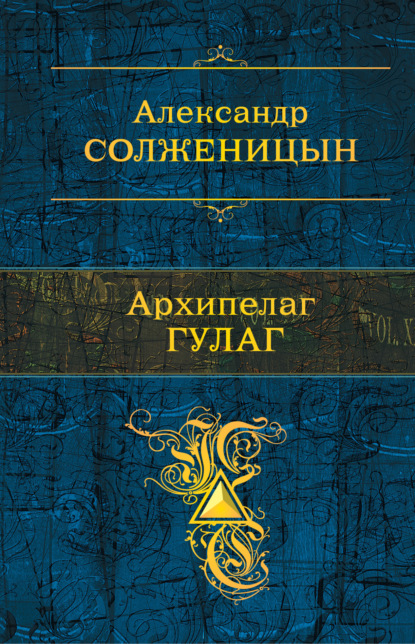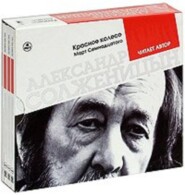По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Архипелаг ГУЛАГ
Год написания книги
1975
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом?
Нет, без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись.
Недоумевают особенно потому, что ведь это всё – старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это – закалённые, пропечённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь – простая ошибка. Это были не те старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали сроки – но настоящего неумолимого следствия отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой червонец, как в наше время любой колхозник; правда, среди той десятки – три года каторжного централа, так и тоже не невидаль.
Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36–38-го годов, имели в своём революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но ка кие-то шуточные; видимо, даже одного года подряд он ни где не отсидел, чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге[126 - Все данные здесь – из 41-го тома «Энциклопедического Словаря Русского Библиографического Института Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКП(б).]. Каменев, с его долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России, просидел 2 года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и трёх месяцев! не имел ни одного приговора! По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они – младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и И. Н. Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как-то легко проходили их тюрьмы, изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. (Нет оснований предполагать, что попади в эти клещи Троцкий – он вёл бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче: не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь лёгкие тюрьмы, никаких серьёзных следствий да два года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя Рев воентрибуналов досталась ему дёшево и не выявляет истинной твёрдости: кто многих велел расстрелять – ещё как скисает перед собственной смертью! Эти две твёрдости друг с другом не связаны.) А Радек – провокатор (да не один же он на все три процесса!). А Ягода – отъявленный уголовник.
(Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашёл бы в своём сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно-настойчиво попросил пощады прямо у него: «Я обращаюсь к Вам! Я для Вас построил два великих канала!..» И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки. – Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? – в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами – неосвещённая галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.)
А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкою: почему там столько наговорено на себя и на других? – мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, И. Н. Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми – и только из-за этого, по сути, наше недоумение.
Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто трудней подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах: там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала, главных исполнителей все знают, и публика желает, чтоб играли непременно они.
Но всё-таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых – те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста (Скрыпник, Томский, Гамарник). А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Енукидзе, Чубаря, Косиора, да того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы украсили те процессы.
Самых податливых и вывели! Отбор всё-таки был.
Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.
И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей (и кому, очевидно, посвятил Кёстлер своё талантливое исследование) – Н. И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию – там в подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу: подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был – в пасти.
Бухарин не любил Каменева и Зиновьева и, ещё когда судили их в первый раз, после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такой народ. Что-нибудь, может быть, и было…» (Классическая формула обывателя тех лет: «Что-нибудь, наверно, было… У нас зря не посадят». Это в 1935 году говорит первый теоретик партии!) Второй же процесс Каменева-Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь-Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе – и прочёл уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы… Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.
Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?
Однако ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии – и в своей кремлёвской квартире, в Потешном дворце Петра, полгода жил как в тюрьме. (Впрочем, на дачу ездил осенью – и кремлёвские часовые как ни в чём не бывало приветствовали его.) К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он безконечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..» – оставшиеся без единого ответа.
Он ещё искал сердечного контакта со Сталиным!
А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал… Коба уже много лет как сделал пробы на роли, и знал, что Бухарчик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников (малочисленных, впрочем), он стерпел их разгром[127 - Одного Ефима Цетлина отстоял, и то ненадолго.]. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли, ещё как следует и не рождённого. А теперь, ещё главный редактор «Известий», ещё кандидат Политбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шёпотом. Так это всё и были пробы на роль!
А ещё прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его (их всех в разное время!) из партии, – Бухарин (они все!) отрекался от своих взглядов, чтоб только остаться в партии! Так это и была проба на роли! Если так они ведут себя ещё на воле, ещё на вершинах почёта и власти – то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безу пречно подчинятся тексту драмы.
И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно: боязнь быть исключённым из Партии! лишиться Партии! остаться жить, но вне Партии! Вот на этой-то (их всех!) черте и великолепно играл дорогой Коба, с тех пор как сам стал Партией. У Бухарина (у них у всех!) не было своей отдельной точки зрения, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи. И все усилия их направились – удержаться в Партии. И при том же не повредить Партии!
Слишком много необходимостей, чтобы быть независимым!
Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль – и ни что не должно было быть скомкано и упущено в работе Режис сёра с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу минувшей зимой за рукописями Маркса не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но безцельная свобода гастрольной жизни ещё неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами чёрных обвинений – долгий, безконечный неарест, изнурительное домашнее томление – оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то – и не уйдёт, того тоже будет – год.)
Как-то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил ему очную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о «параллельном Правом Центре» (то есть параллельном троцкистскому), о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провёл допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Всё врёт, б…!»
Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» – с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».
Радек осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень? Но их дачи известинские были рядом, и как-то вечером Радек пришёл: «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чём не виноват. Впрочем, ты уцелеешь: ты же не был связан с троцкистами».
И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат – это было бы чудовищно! К троцкистам он действительно всегда относился худо: вот они поставили себя вне партии – и что вышло! А надо держаться вместе, делать ошибки – так вместе.
На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг – к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! – здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на мавзолее».
Так из жарка? в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли бухаринскую Конституцию и нарекли её вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты (ягодинцы, Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль). Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он недослышивал): «Скажите, а вы добровольно даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно», – пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского – воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».
Тут гневно и проклинающе выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика! – но не выходило…) и Молотов. А Сталин! – какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин». (Это помимо его желания кто-то стягивал обвинения на Бухарина!)
Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.
Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института Красной Профессуры, и Радека, и всех других – и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Ему на дом несли не как обвиняемому, о нет! – как члену ЦК, лишь для осведомления…
Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» – а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома (и время давал ему Сталин!) – он не кончил с собой.
Разве он не вжился в назначенную роль?..
И ещё один гласный процесс прошёл – и ещё одну пачку расстреляли… А Бухарина щадили, а Бухарина не брали…
В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Объявил в письме Дорогому Кобе – и честно выдерживал. Тогда созван был Пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.
И заколебался Бухарин: а может быть, в самом деле он чем-то оскорбил Партию?.. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на Пленум. – «Что это ты выдумал?» – душевно спросил Дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить…» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из партии не исключит!»
И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед Пленумом, тут же снял голодовку. (Дома: «Ну-ка отрежь мне колбасы! Коба сказал – меня не исключат».) Но в ходе Пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считаются!)[128 - Каких мы богатейших показаний лишаемся, покоя благородную молотовскую старость!] обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.
И снова пал духом Бухарин, и в последние свои дни стал сочинять «письмо к будущему ЦК». Заученное наизусть и так сохранённое, оно недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и «будущее ЦК». А чего стоит адрес! – ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что решил этот острый, блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Ещё один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И ещё одно заверение, что «полностью одобряет» всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит – не только все предыдущие глумливые процессы, но и – все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации!
Так он расписался, что достоин нырнуть в них же…
Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров – этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки! – наверно, и этого не мог ему Коба простить.)
И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, – чем у него позиция сильней, чем была у Якубовича в 1931 году? В чём неподвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабей ещё, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин её боится.
И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:
– Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии? – Вообще – да. Фактически – да. – Но борьба против Партии не может не перерасти в войну против Партии? – По логике вещей – да. – Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли бы быть совершены любые мерзости против Партии (убийства, шпионства, распродажа Родины)? – Но позвольте, они не были совершены. – Но могли бы? – Ну, теоретически говоря… (ведь теоретики!..) – Но высшими-то интересами для вас остаются интересы Партии? – Да, конечно, конечно! – Так вот осталось совсем небольшое расхождение: надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи – признать за совершённое то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? – Могло… – Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход. Договорились?.. Да, ещё! ну, не вам объяснять: если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе – вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите Партии. Ну и разумеется, вы сами тогда не лёгкой умрёте смертью. А всё сойдёт хорошо – мы, конечно, оставим вас жить: тайно отправим на остров Монте-Кристо, и там вы будете работать над экономикой социализма. – Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли? – Ну что вы сравниваете – они и вы! И потом, мы многих оставили, это только по газетам.
Так может, уж такой густой загадки и нет?
Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: ведь мы же с вами – коммунисты! И как же вы могли склониться – выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе – это мы!
Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет – такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:
– Нет, с вами мы не революционеры!.. Нет, с вами мы не русские!.. Нет, с вами мы не коммунисты!
А кажется, только бы крикнуть! – и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы – сразу шестидесятые!
* * *
Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.
Вернее, был у него в 37-м году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах – чтобы чёрная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссёров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые – и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось – и было оставлено.
Об одном таком процессе уместно здесь рассказать – о Кадыйском деле, подробные отчёты которого уже начали было печататься в ивановской областной газете.
Нет, без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись.
Недоумевают особенно потому, что ведь это всё – старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это – закалённые, пропечённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь – простая ошибка. Это были не те старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали сроки – но настоящего неумолимого следствия отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой червонец, как в наше время любой колхозник; правда, среди той десятки – три года каторжного централа, так и тоже не невидаль.
Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36–38-го годов, имели в своём революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но ка кие-то шуточные; видимо, даже одного года подряд он ни где не отсидел, чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге[126 - Все данные здесь – из 41-го тома «Энциклопедического Словаря Русского Библиографического Института Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКП(б).]. Каменев, с его долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России, просидел 2 года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и трёх месяцев! не имел ни одного приговора! По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они – младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и И. Н. Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как-то легко проходили их тюрьмы, изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. (Нет оснований предполагать, что попади в эти клещи Троцкий – он вёл бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче: не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь лёгкие тюрьмы, никаких серьёзных следствий да два года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя Рев воентрибуналов досталась ему дёшево и не выявляет истинной твёрдости: кто многих велел расстрелять – ещё как скисает перед собственной смертью! Эти две твёрдости друг с другом не связаны.) А Радек – провокатор (да не один же он на все три процесса!). А Ягода – отъявленный уголовник.
(Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашёл бы в своём сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно-настойчиво попросил пощады прямо у него: «Я обращаюсь к Вам! Я для Вас построил два великих канала!..» И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки. – Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? – в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами – неосвещённая галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.)
А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкою: почему там столько наговорено на себя и на других? – мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, И. Н. Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми – и только из-за этого, по сути, наше недоумение.
Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто трудней подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах: там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала, главных исполнителей все знают, и публика желает, чтоб играли непременно они.
Но всё-таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых – те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста (Скрыпник, Томский, Гамарник). А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Енукидзе, Чубаря, Косиора, да того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы украсили те процессы.
Самых податливых и вывели! Отбор всё-таки был.
Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.
И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей (и кому, очевидно, посвятил Кёстлер своё талантливое исследование) – Н. И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию – там в подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу: подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был – в пасти.
Бухарин не любил Каменева и Зиновьева и, ещё когда судили их в первый раз, после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такой народ. Что-нибудь, может быть, и было…» (Классическая формула обывателя тех лет: «Что-нибудь, наверно, было… У нас зря не посадят». Это в 1935 году говорит первый теоретик партии!) Второй же процесс Каменева-Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь-Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе – и прочёл уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы… Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.
Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?
Однако ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии – и в своей кремлёвской квартире, в Потешном дворце Петра, полгода жил как в тюрьме. (Впрочем, на дачу ездил осенью – и кремлёвские часовые как ни в чём не бывало приветствовали его.) К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он безконечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..» – оставшиеся без единого ответа.
Он ещё искал сердечного контакта со Сталиным!
А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал… Коба уже много лет как сделал пробы на роли, и знал, что Бухарчик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников (малочисленных, впрочем), он стерпел их разгром[127 - Одного Ефима Цетлина отстоял, и то ненадолго.]. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли, ещё как следует и не рождённого. А теперь, ещё главный редактор «Известий», ещё кандидат Политбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шёпотом. Так это всё и были пробы на роль!
А ещё прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его (их всех в разное время!) из партии, – Бухарин (они все!) отрекался от своих взглядов, чтоб только остаться в партии! Так это и была проба на роли! Если так они ведут себя ещё на воле, ещё на вершинах почёта и власти – то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безу пречно подчинятся тексту драмы.
И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно: боязнь быть исключённым из Партии! лишиться Партии! остаться жить, но вне Партии! Вот на этой-то (их всех!) черте и великолепно играл дорогой Коба, с тех пор как сам стал Партией. У Бухарина (у них у всех!) не было своей отдельной точки зрения, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи. И все усилия их направились – удержаться в Партии. И при том же не повредить Партии!
Слишком много необходимостей, чтобы быть независимым!
Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль – и ни что не должно было быть скомкано и упущено в работе Режис сёра с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу минувшей зимой за рукописями Маркса не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но безцельная свобода гастрольной жизни ещё неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами чёрных обвинений – долгий, безконечный неарест, изнурительное домашнее томление – оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то – и не уйдёт, того тоже будет – год.)
Как-то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил ему очную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о «параллельном Правом Центре» (то есть параллельном троцкистскому), о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провёл допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Всё врёт, б…!»
Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» – с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».
Радек осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень? Но их дачи известинские были рядом, и как-то вечером Радек пришёл: «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чём не виноват. Впрочем, ты уцелеешь: ты же не был связан с троцкистами».
И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат – это было бы чудовищно! К троцкистам он действительно всегда относился худо: вот они поставили себя вне партии – и что вышло! А надо держаться вместе, делать ошибки – так вместе.
На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг – к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! – здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на мавзолее».
Так из жарка? в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли бухаринскую Конституцию и нарекли её вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты (ягодинцы, Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль). Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он недослышивал): «Скажите, а вы добровольно даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно», – пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского – воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».
Тут гневно и проклинающе выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика! – но не выходило…) и Молотов. А Сталин! – какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин». (Это помимо его желания кто-то стягивал обвинения на Бухарина!)
Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.
Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института Красной Профессуры, и Радека, и всех других – и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Ему на дом несли не как обвиняемому, о нет! – как члену ЦК, лишь для осведомления…
Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» – а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома (и время давал ему Сталин!) – он не кончил с собой.
Разве он не вжился в назначенную роль?..
И ещё один гласный процесс прошёл – и ещё одну пачку расстреляли… А Бухарина щадили, а Бухарина не брали…
В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Объявил в письме Дорогому Кобе – и честно выдерживал. Тогда созван был Пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.
И заколебался Бухарин: а может быть, в самом деле он чем-то оскорбил Партию?.. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на Пленум. – «Что это ты выдумал?» – душевно спросил Дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить…» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из партии не исключит!»
И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед Пленумом, тут же снял голодовку. (Дома: «Ну-ка отрежь мне колбасы! Коба сказал – меня не исключат».) Но в ходе Пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считаются!)[128 - Каких мы богатейших показаний лишаемся, покоя благородную молотовскую старость!] обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.
И снова пал духом Бухарин, и в последние свои дни стал сочинять «письмо к будущему ЦК». Заученное наизусть и так сохранённое, оно недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и «будущее ЦК». А чего стоит адрес! – ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что решил этот острый, блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Ещё один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И ещё одно заверение, что «полностью одобряет» всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит – не только все предыдущие глумливые процессы, но и – все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации!
Так он расписался, что достоин нырнуть в них же…
Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров – этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки! – наверно, и этого не мог ему Коба простить.)
И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, – чем у него позиция сильней, чем была у Якубовича в 1931 году? В чём неподвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабей ещё, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин её боится.
И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:
– Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии? – Вообще – да. Фактически – да. – Но борьба против Партии не может не перерасти в войну против Партии? – По логике вещей – да. – Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли бы быть совершены любые мерзости против Партии (убийства, шпионства, распродажа Родины)? – Но позвольте, они не были совершены. – Но могли бы? – Ну, теоретически говоря… (ведь теоретики!..) – Но высшими-то интересами для вас остаются интересы Партии? – Да, конечно, конечно! – Так вот осталось совсем небольшое расхождение: надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи – признать за совершённое то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? – Могло… – Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход. Договорились?.. Да, ещё! ну, не вам объяснять: если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе – вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите Партии. Ну и разумеется, вы сами тогда не лёгкой умрёте смертью. А всё сойдёт хорошо – мы, конечно, оставим вас жить: тайно отправим на остров Монте-Кристо, и там вы будете работать над экономикой социализма. – Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли? – Ну что вы сравниваете – они и вы! И потом, мы многих оставили, это только по газетам.
Так может, уж такой густой загадки и нет?
Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: ведь мы же с вами – коммунисты! И как же вы могли склониться – выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе – это мы!
Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет – такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:
– Нет, с вами мы не революционеры!.. Нет, с вами мы не русские!.. Нет, с вами мы не коммунисты!
А кажется, только бы крикнуть! – и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы – сразу шестидесятые!
* * *
Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.
Вернее, был у него в 37-м году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах – чтобы чёрная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссёров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые – и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось – и было оставлено.
Об одном таком процессе уместно здесь рассказать – о Кадыйском деле, подробные отчёты которого уже начали было печататься в ивановской областной газете.