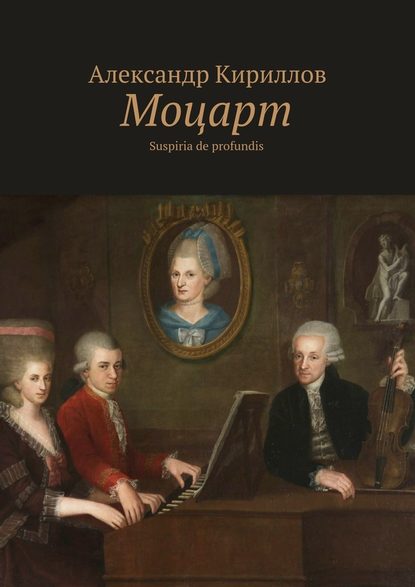По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моцарт. Suspiria de profundis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В квартире Моцартов, сидя за клавесином, стучит по клавишам одним пальцем Леопольд. Друг дома Шахтнер держит в руках тромбон. Они оглядывается на Вольфганга, и, о чем-то споря между собой, встают со своих мест. Леопольд, изящный, неизменно опрятный, будто весь вылизанный с ног до головы, улыбается сыну и к чему-то его энергично призывает. Шахтнер, простолюдин во всём: в грубоватых остротах и в неуемном хохоте с похлопыванием себя по ляжкам, смешной и нелепый, в кургузом одеянии и в штопаных белых чулках, обтянувших его треугольные каменные икры, – добро подмигивает Вольфгангу, как бы извиняясь. И вдруг поднимает тромбон, прижимается губами к мундштуку и двигается с рычащим раструбом на обезумевшего от ужаса Вольфганга. Медно поблескивая, раструб ревет, ширится, надвигаясь на Вольфганга, и раздувает ему голову, как воздушный шар, который вот-вот готов лопнуть, но всё разбухает, дуется, звенит от напряжения… Неосторожный кикс – и он всё-таки лопается.
Этот вечер навсегда запал ему в душу безотчетным страхом и часто давал о себе знать из глубин подсознания. Казалось, что в нём было особенного. Накрытый к ужину стол, уставленный посудой из толстой белой керамики, баночками со специями, бокалами для вина. Трезль – с обжаренной уткой на блюде. Синие окна за шелковыми занавесками. Наннерль на кушетке, забавлявшаяся с собственной ладонью, порхавшей у неё перед глазами подобно стрекозе. Анна Мария, время от времени попадавшая в поле его зрения, а в углу – у клавесина с канделябром – отец и Шахтнер. Довольное лицо Леопольда, мозолистые кисти Шахтнера, сжимавшие тромбон припухлыми на суставах пальцами. Старые друзья сладко улыбались, перемигиваясь, и с двух сторон надвигались на Вольфганга, выставив перед собой, словно мушкет, длинный ствол тромбона. Медная воронка поблескивала, слепила глаза и втягивала в себя дрожащую душу Вольфганга. Он сопротивлялся, затыкал уши, пятился… Этот сверкающий дулом тромбон и его утробно трубящий, разъяренный рык – так и остались для Вольфганга символом надвигающейся катастрофы, насилия и смерти. Во всяком случае, так звучит он для нас в его операх «Идоменей» и «Дон Жуан».
Успокоился малыш только у Хагенауэрoв. Его забрал к себе добрый папаша Лоренц, заглянувший к Моцартам по щепетильному денежному вопросу. Вольфгангу постелили в детской рядом с Домиником. Не расставаться с другом, болтать с ним до утра было его давнишней мечтой. И папаша Лоренц, печальный толстяк, чем-то похожий на упитанного индюка, бесцельно слоняющегося по двору, судьба которого предрешена, стоял в дверях и желал им доброй ночи, доставая из обшлага домашнего халата батистовый платок.
С тем же платком, но уже осушая им глаза, стоял он в дверях дома на Гетрайдегассе 9, провожая Моцартов в очередное заграничное путешествие, снабдив их на дорогу деньгами и заемными письмами. Из-за его тучной фигуры, уцепившись рукой за отцовскую пуговицу, выглядывал Доминик, и крутил эту пуговицу молча, с ожесточением, пока не отрывал её.
По неведомым для нас причинам Бог не терпел возле Вольфганга самых близких ему друзей и решительно отбирал их у него. За что налагалась такая жестокая епитимья – Бог весть? Но их круг сужался, а обзаводиться новыми друзьями уже не хватало душевных сил. Доминик был первым, утрату которого ему пришлось пережить. Это была не смерть, но вечная разлука. Доминик ушел в монастырь Св. Петра послушником. За глухими стенами вместе с ним укрылся и его Вольфганг, их Зальцбург. Представить себе дом папаши Лоренца без Доминика (и не только дом, но и весь Зальцбург) было для Вольфганга равносильно смерти друга. Их шушуканья в соборе дождливыми холодными вечерами, их откровения на чердаке и длительные прогулки по городу, особенно частые перед отъездом Вольфганга за границу – вот их Зальцбург. В те годы Доминик был его вторым «я». Он крепко-накрепко связывал его невидимой духовной нитью с Зальцбургом. И вдруг всё разом оборвалось. «Вольфганг плакал, когда я читал ему это письмо, и на мой вопрос о причине слез, он ответил, что испытывает боль, так как думает, что никогда больше не увидит его. Нам с трудом удалось вывести сына из этого заблуждения… Вернувшись в Зальцбург, он намерен тут же ехать в монастырь Св. Петра и просить Каэтана [Доминика], чтобы тот поймал для него муху и отправился вместе с ним стрелять по рисованной мишени». Это были его последние отчаянные, еще темные, детские слёзы.
С той самой поры, глядя весной на цыплячью нежность вылупившегося из почки крохотного листика, Вольфганг инстинктивно жалел его – он ведь не доживет до осени и, может быть, уже в начале лета огрубеет, пожелтеет, увянет и отвалится от ветки, став изгоем, так и не дождавшись осеннего листопада, этой естественной поры, когда и смерть красна; его будут топтать до срока, поддевать носками башмаков, под шумящими кронами всё такой же свежей, никогда не вянущей (как ему будет казаться с земли) ярко-зеленой листвы, под которой он будет сохнуть, буреть, пока совсем не превратится в прах.
На всё есть два взгляда – с земли и с небес. Их смена и есть переселение души из этого в лучший из миров. Для Вольфганга они оба стали доступны уже здесь на земле. Отсюда «черствость» его души, которая видит не только участок дороги, но и весь путь. Интуитивно он знает, нельзя приспособиться к тому, что не имеет времени, что есть бессмертие, как нельзя приспособиться к Богу. Всякая внешняя ломка чего бы то ни было – музыкальной формы, взаимоотношений с людьми, образа жизни или государственного устройства (пример его глухоты к французской революции) ему чужда. Его новаторство не в изобретательстве, а в состоянии души. Время уходит только на запись, он сразу знает любое своё творение целиком. Он лишен радости Й. Гайдна усердно кружить по непредсказуемому лабиринту разработок, делая по ходу неожиданные открытия. Его разработки не развитие темы в общепринятом смысле, а сама тема, увиденная во всей своей сложности и полноте. Его ансамбли – не диалоги страстей и мыслей героев, а монологи их судеб.
Говорят, Шостакович был наделен той же способностью слышать свои сочинения не в беглых набросках, а уже завершенными, во всей своей целостности. Но в отличие от Моцарта он был безбожником или, скажем, не пришел к Богу, не дошел до Него, не услышал Его зова. Потому таким невыносимым для него был взгляд на себя из вечности, настолько невыносимым, что лишь в искаженном, сатирическом, пародийном виде он мог еще казаться ему терпимым. Всплески натужной, почти шутовской веселости, бравурности, ёрничества, отчаянного протеста перемежаются в его музыке с приливами сильнейшей душевной депрессии, холодной и мутной меланхолии.
Не миновала сия «чаша» и Вольфганга. Но она была не с цикутой умерщвляющей, как у Шостаковича, сулящей мрак души, небытие, тлен. В «чаше» у Моцарта, как в Св. Потире, кровь Господня, животворная, бальзам вечной жизни. Не старухой с острой косой явится к нему смерть, а Божьей матерью, «Нечаянной Радостью», благословляющей и утешающей, что уже завтра он будет с Ними. А пока отнимались у него д?ши, к которым он особенно привязывался; и нужда заставляла его раз за разом съезжать с новой квартиры, едва обжитой. И не случайно ему было отказано в счастье взаимной любви, а жизнь проходила в придорожных гостиницах и почтовых каретах в поисках надежного заработка и постоянного пристанища. «Доколе Я буду с вами?» – вслед за Господом мог бы себе позволить сказать он, вечно кочующий с места на место, как кочуют цыгане.
ОТЪЕЗД
Я написал эту фразу и тут же зазвучала во мне тема Анданте из Концертной симфонии для скрипки и альта (Es-Dur), сочиненной им уже по возвращению в Зальцбург (1779), два года спустя после заказанного м-ль Женом фортепьянного концерта.
Это Анданте и Андантино из концерта для м-ль Женом ведут между собой через годы безутешный и только им понятный диалог. Андантино драматично, так как еще только предчувствует или, точнее, провидит будущее, уготованное Вольфгангу (затрудненное дыхание, местами с приступами настоящего удушья, стесняет неторопливую, словно на исповеди, скорбную речь); Анданте – трагично, но уже без мрачности: покойно, печально, просветленно, потому что всё уже позади, свершилось. И теперь мне понятно, откуда у Моцарта вдруг этот тягучий («таборный») мотив главной темы в Анданте. Это скорбь «Вечного Жида» о навеки утраченном доме, которым был для Моцарта не столько пятачок земли, с населявшим его германским народом, но весь мир. Таким он представлялся ему в Зальцбурге из окна тюремной крепости, куда его снова упрятали, где ждала его всё та же камера, обмятый его боками тюремный тюфяк, неизменный надзиратель в облике отца, изученный им до характерного звука шагов, менявшихся в зависимости от настроения.
До побега – он знал путь на волю, и где та стена, под которой готов был подкоп. После побега – стена выросла внутри него, а за стеной осталось похороненным всё то, что еще недавно с такой силой и обещаниями звало на волю. Он опять несвободен. Но это уже не та несвобода, масштабы которой зависели от прихотей князя-архиепископа, здесь уже явно просматривался Божий Промысел. Открытый космос манил и звал странным жестяным звуком – не то шелестящим, не то позвякивающим, словно связка ключей в руках св. Петра. Даже в ночной тишине касался его кожи сухой металлический шелест и внушал: твой путь – путь «послушника», «путь и?скуса» – иди, иди, не оглядывайся, не зная привязанностей, сожалений, сомнений, страха… а звуки оркестра судорогой стягивали глотку – глубокими, пудовыми, спазматическими вздохами…
У деревенской церкви две могучих ветвистых березы ярко желтеют на синем холодном небе, издавая мелкими золотистыми листочками всё тот же сухой жестяный звук – «день был субботний Иоанн Богослов».[12 - Марина Цветаева. Стихотворения.] От церкви – среди покоя и прохлады – тянутся мерные, глухие удары колокола…
Католический храм полон народа, сидят и стоят вплотную друг к другу – ни разговоров, ни даже шепота – мертвая тишина.
Марина прижалась в углу у входа. Ей странен и звук колокола, и весь облик храма без привычного для православной церкви иконостаса. Стрельчатые окна, дух нагретого солнцем дерева, что-то светское в живописи, в культовых деревянных фигурах, – и каменное молчание прихожан, ни одной согбенной спины, ни одного опущенного лица. «Kyrie eleison», – запел на хорах высокий детский голос и завздыхал по-стариковски, отдуваясь и поспешая за голосом, приземистый орган, сверкая вставной челюстью.
И вдруг, как просыпавшийся на каменный пол бисер, дробный девичий хохоток запрыгал нежными горловыми трелями. Все всколыхнулись, словно оживший «некрополь», и обернулись. Юная прихожанка, привычным движением обмакнув в чашу у входа два пальца, перекрестилась, присев на одно колено. За ней проделал то же самое и так же походя её кавалер, ушастый, вихрастый, с мотоциклетным шлемом в руке. Они с благочестивым вниманием дослушали «Agnus Dei», затаившись как две рыбки в коралловых рифах, и вдруг, так же стремительно перекрестившись, окунув пальцы в чашу, вышли из церкви. Рёв мотоцикла, веселые ребячьи голоса; как теплый порыв ветра пахнул в открытые двери храма и растаял в его прохладе и где-то там, в пустынных деревенских улочках…
Проселочная дорога, овражек, выжженный солнцем пригорок. Деловито и целеустремленно, как рыщут бездомные собаки в поисках пищи, летают вороны, едва не задев вас крылом, почти припадая к земле, будто что-то вынюхивая… «Чужое и бесы помают», – слышится Марине и она убыстряет шаг, торопится, сутулясь, не разбирая дороги, не чувствуя голода, не зная отдыха, одна-одинешенька, ведомая голосом, напутствующим её: «Восстань, возьми одр твой и ходи»… Где-то здесь, сейчас, такой же одинокий на всем белом свете, изъязвив колени о зачерствелую как камень землю, молится Он: «Авва Отче! Всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня». Спят ученики. Никто не спасется опытом другого, каждый стремится на собственную Голгофу. И вечно опаздывает в суете сует как на собственные похороны: вбежал, запыхавшись, расталкивая зевак, а покойника уже и след простыл, ищи-свищи, где теперь свидитесь, в каком из этих миров?.. Совершив свой печальный круг, ушло за горизонт солнце, замыв за собой следы прозеленью с рыжевато-лиловыми разводами. Солнца уже нет, но оно еще долго здесь, удерживая за собой западную окраину неба, как бы поделенного на две стихии. В зените же холодной синевы – раскаленный добела, острый как бритва, серп луны…
К ночи собрался дождь. Зашуршал, завозился в темных лопухах на задворках усадеб, просы?пался сквозь поредевшие кроны яблонь и затерялся в густой зелени смородины, колючего малинника. Если, слушая дождь, закрыть глаза, можно легко представить, что там, за забором, потрескивает горячим плескотом огонь, суетливо и жадно обгладывая уже задымившуюся головешку, подлаживая её то так, то эдак под особо крепкий и острый зуб.
Почтовая карета с зашторенными окнами и одиноким фонарем на козлах, кренясь и брызжа грязью, проследовала через деревню. Марина прижалась к забору, пропуская карету, и оглянулась, приняв её в темноте по близорукости за катафалк. «Сальери» – отозвалось в сердце, ничего не прояснив, и тут же забылось вместе с исчезнувшей в пелене дождя каретой.
Когда вышла за околицу, кто-то шепнул ей на ухо: «Оглянись». Не оглянулась, и спаслась. Шла, не останавливаясь, не присаживаясь, не глядя по сторонам. Сначала проселочной дорогой, заросшей заячьей капустой вдоль обочины; потом полем – узким коридором во ржи; лесной тропкой, пьяно колесившей среди кустов, всё кренившейся и забиравшей вправо, пока не вынесло вдруг на опушку… Если глянуть окрест, то за балкой в низине угадывалась по очерку крыш деревня… Елабуга – будто праздное дышло уперлось ей в спину между лопаток. Впрягись и вези свой воз, – не хочу! Не сейчас! Она торопится, почти бежит – и ушла, и много плутала. Темной дорогой из Болшево на станцию, где звук собственных шагов стучал в висках напряженной ниточкой пульса, пока не впивался в глаза фонарь над дощатой платформой. И зимней дорогой, возвращаясь к себе в Голицыно, мимо заснеженного поля с узловатым безлистым деревом, трясясь от холода, в свой откупленный на время угол-террасу («слишком много стекла, черноты и тоски»), где её держали на виду, как золотую рыбку в аквариуме. Безоглядно уходила она закольцованной дорогой Прага-Вышера-Прага, мотаясь с поезда на поезд, твердо усвоив для себя очевидное: кто боится одиночества, тот просто не знает, что в чьем-то присутствии оно еще невыносимей. И, наконец, Таруса – её нескончаемый путь, где она давным-давно себя похоронила, оплакала, попричитала, как водится, и камень надгробный заказала, и эпитафию сочинила, и с легкой душой ушла…
Плачут, стенают слепые и глухие, уткнувшись лбом в могильную плиту, а она уходит дальше… «дверь открыта и дом мой пуст»… Мысли витают где-то не здесь (может быть, в России – в Борисоглебском; может быть, в Германии – на Унтер-ден-Линден). Русскоязычная немка или германофилка из России. По духу «крестоносец», по делам сестра милосердия, – прошла мимо… Оглянись же! Нет, идет не оглядываясь, теряясь в толпе. Простая серая юбка, стоптанная обувь, ворот блузки расстегнут, на шее ниточка из мелкой бирюзы. Голова опущена, короткая стрижка, сама худая, загорелая, ключицы выпирают под кожей, как ребра зонта, а икры ног полные, отекшие… Уходит, не поднимая головы, вдруг кто-нибудь вломится в её жизнь, разодрав нахальной рожей полог белесого неба: «А подать сюда» – скажет… Почему-то ей виделась именно такая в полнеба хамская рожа. И смотрит сверху эта рожа. Спрячешься в кусты – она осторожно вытянет из кустов двумя пальцами, как насекомое, и опять на дорожку кинет. Залезешь в овраг под сваленное дерево – и оттуда те же два пальца извлекут и на тропинку; не убежать, не спрятаться – всюду достанут два нависших сверху, брезгливо берущих, как котят за шкирку, два холеных княжеских пальца…
Аля спит, не дождавшись мать. Закуталась в старое одеяло, свернувшись калачиком на широкой деревенской кровати, такой же скрипучей и рассохшейся, как встреченная у околицы карета. Темно так, что не сразу определишь, где же в комнате окно. Там на подоконнике керосиновая лампа. Чиркнула спичка – раз, другой, дымит, краснеет серная головка – огня нет. Зажглась, наконец. От света лампы стало спокойно. Я вижу, как Марина, переобувшись, несёт лампу к столу; локтем сдвигает на край столешницы посуду и садится за работу. Непроизвольно тянется рука, машинально жуется хлеб, потрескивает жарким костром за окнами дождь… Уже поздно, но она не ложится спать. Запоздалый грохот мчащегося в депо трамвая отвлекает меня от рукописи, и я смотрю в окно из моей московской квартиры. Марина прислушивается в Иловищах, и её округлый почерк хорошистки выводит в тетради: «Нас родина не позовет! Езжай, мой сын, домой – вперед – в свой край, в свой век, в свой час…» Что пишет? «Поэму конца», «Поэму горы»… «Соль сжигает щеки, Перед глазами креп. – Адрес? Его прочтете В справочнике судеб»…
Ранним сентябрьским утром от дома на Ганнибалплатц отъезжает карета, увозя Вольфганга и Анну Марию в длительное путешествие. На этот раз они уехали без свидетелей. Толстяк Лоренц Хагенауэр уже не мог стоять, опечалясь, на пороге своего дома, судорожно комкая в пухлой ладони платок; не было и Доминика, ушедшего в монастырь; не было даже отца и Наннерль. Леопольд, потрясенный их отъездом, так и не сошел вниз проводить их, а Наннерль, опустив шторы у себя в комнате, весь день прорыдала в постели. «Пимперль печально устроилась рядом с нею».
Леопольд сомнамбулой бродил по опустевшей квартире, время от времени предлагая дочке чай, а ближе к вечеру – обед, приготовленный Трезль. « [С] уходом Буллингерa, – написал он жене на следующий день, – я лег в кровать и провел время в молитвах и чтении… Собака зашла взглянуть на меня, я пробудился, и она дала мне понять, что я должен выйти с нею на прогулку. Я поднялся, взял мою шубу, и, найдя Наннерль крепко спящей, вышел, а вернувшись с прогулки, разбудил дочь, приготовив нам еду». Когда стемнело, заглянул Шахтнер – проведать, помузицировать. Тут же сели за дуэты – не пошло. Глаза у Леопольда слезились, ноты расплывались, а мысли мчались следом за каретой, увозившей жену и сына. Как сквозь стену доносился до него голос Шахтнерa, который, обращаясь к Наннерль, вспоминал…
«Что ты пишешь, малыш?» – спросил его тогда герр Моцарт, застав Вольфганга с пером в руке. Тот ответил, макая в чернильницу перо: «Концерт для клавира». Герр Моцарт протянул руку, желая взять листок и посмотреть, но Вольферль уперся: «Я еще не кончил». Боже мой, что это была за мазня. В своем детском неведении он макал перо до самого дна чернильницы и, всякий раз, касаясь им бумаги, ставил кляксу; потом преспокойно вытирал её ладошкой и писал дальше. Мы, пряча улыбки, потешались, разглядывая эту мазню, и вдруг герр Моцарт замер чем-то пораженный. Я никогда больше не видел у него слез восхищения и радости. «Взгляните, – сказал он мне, – господин Шахтнер, как здесь всё правильно и стройно, только вряд ли это исполнимо. Ведь это написано так необычайно трудно, что ни одному человеку не сыграть». На что Вольфганг заметил: «На то он и концерт. Надо так долго упражняться, пока не получится». И он заиграл, и сумел показать ровно столько, сколько нужно было, чтобы мы поняли его намерения… Он был уверен, наш мальчик, что играть концерт и творить чудеса – это одно и то же… Господи, не оставь его в пути, не лиши своего покровительства и милостей».
Пусто стало, когда ушел Шахтнер – тихо, темно. Изредка Трезль звякала на кухне грязной посудой, и скулила под дверью Пимперль, просясь на прогулку. Так поздно её обычно выводил гулять Вольфганг. Вот Трезль вымоет посуду, оденется и выведет её… Пусть идет, только пусть не скулит так тоскливо Пимперль… и не бегает на каждый стук к входной двери встречать Вольфганга, а потом искать его по комнатам, будто он дух святой – невидимо и бесшумно проникший в дом.
Стукнула дверь, – перемыв посуду, Трезль ушла с собакой. Квартира погрузилась в илистый сумрак. От каменного пола на кухне повеяло холодом. Догоравшие угли в печи тускнели, затягиваясь пепельной пленкой, как веко у птиц. Но сама плита, если к ней прислониться, была еще теплой, даже горячей. Смыкались глаза – не от дремы, от гложущей с утра боли – надоедливой, тянущей, не отпускавшей ни на мгновенье.
Пока шли сборы, мозг был занят множеством обычных при отъезде мелких забот: как упаковать и уложить вещи, и ничего не забыть, предусмотрев всё необходимое в длительном путешествии. Денежные расчеты, рекомендательные письма, бытовые советы занимали его до последней минуты… И вдруг, в момент прощания, нервный срыв, ощущение неизбежной катастрофы, предчувствие вечной разлуки, отчаяние, паника, что назад уже не повернуть. «В то время, когда я укладывал ваш багаж, я был душевно нездоров, причиной тому были страх и боль, я возился внизу около экипажа, у меня не было времени поговорить с вами до вашего отъезда. Я видел её тогда в последний раз!»
И всё же. Еще не всё было потеряно, еще в его силах было удержать их, отложить отъезд. Ему стоило только сказать им — нет. Не дать денег, сказаться смертельно больным – и они не уедут. Сын навсегда останется с ними в Зальцбурге, под его опекой, под присмотром семьи; и будет сохранен, спасен, доживет до глубокой старости, не зная нужды, соблазнов, богемы, унижений, разочарований, предательств, и тем самым продлит им жизнь – ему и Анне Марии.
Леопольд правит копии новой партитуры Вольфганга «Sancta Maria, mater Dei», написанной им в канун рождества Богородицы 9-го сентября. Прощаясь с домом, сын в последний раз снова обратился с молитвой к деве Марии. Пламя свечи заморгало и огненно замерло, как раскаленное стальное перо – не шелохнется, не чадит. Взгляд невольно приковывается к нему, оторвавшись от звучащей ряби нотного стана, и пристально рассматривает это «чудо», пока мимолетный ток воздуха не качнул пламя. Оно дрогнуло, пыхнуло, выпустило тонкую струйку дыма и затрещало, забилось… и теперь уже будет плясать, чадить, вздрагивать, тускнеть и разгораться весь вечер.
Wolferl… es ist nicht vorhаnden![13 - (нем.) Вольферль… отсутствует! (нет как нет или он в нетях)]
Поздно. Леопольд подходит к окну, прислушивается – нет его. Он распознал бы его шаги среди топота толпы, различил бы его юркую худенькую фигуру в кромешной тьме… «Бедные глаза, мои глаза», – причитает Леопольд, вглядываясь в темень за окном.
Вольфганга нет. Он не придет. Леопольд так и не дождется его этим вечером. Не мелькнет перед домом его плащ, не хлопнет дверь в парадном, не будет трезвонить в квартире дверной колокольчик, не будет смеха, шуток, радостных воплей Наннерль, встревоженного ворчания Анны Марии. Сын мокрый от дождя, жалкий, с печальной гримасой на лице трясется и скулит, виртуозно подражая Пимперль, которая тут же, у его ног, радостно отбивает хвостом приветственную дробь… Не будет этого больше. Никогда. Nie!
Сердце останавливается, удушье сковывает грудь. «Польди», – шепчет ему на ухо голос Анны Марии. Он чувствует, как она обхватывает его сзади за плечи, прижимается к нему всем телом. «Польди», – её губы нежно касаются шеи, напрягшейся от щекотки. Она смеется совсем по-девичьи, краснея и пряча глаза, и он слышит её невольно вырвавшееся признание: «Хорошо нам было с тобой, Польди. Разве нет?»
За ужином рюмка красного вина согревает, осветляет голову. Оцепенение проходит, слёзы хоть и текут еще, но горячие и горючие, а не холодные и безутешные. Стараясь не смотреть друг на друга, отец с дочкой играют в «пикет». Игра идет без азарта, не спеша, расчетливо, без обычной радости при выигрыше и огорчений в случае проигрыша. Игра занимает мысли, убивает время, дает чувствам передышку. «Бедные мои глаза», – Леопольд сдавливает веки пальцами. «Как ты думаешь, – спрашивает Наннерль, – они уже въехали в Вассербург?»
ЗЛОСЧАСТНЫЙ ЛЕОПОЛЬД
И опять перед глазами минута, когда карета, отъехав от дома, завернула за угол и покатила вниз к мосту через речку Зальцах. Вывалилось из облаков, как сырой желток из яйца, низкое солнце, засвечивая глаза и отбрасывая на землю расплывшимся йодистым пятном тихий свет… В паутине у?тра заискрился угол пыльного надтреснутого стекла.
Сначала пришло ощущение собственной ненужности, будто озарило темень души ровным холодным светом старости, и вместе с ним сознание: от того, что надвигалось, не отмолиться, не отвертеться, не спрятаться, не сбежать, не проснуться. Потом обнажились корни этого чувства: почти физическое ощущение пустоты, образовавшейся там, где многие годы царило обожание. И это открытие – как приговор, как черный жирный штемпель бюро ритуальных услуг. Всё твое отбирают, увязывают в узел и уносят, оставляя одного в пустом приемном покое, сумрачном и холодном, в чужом – не по росту – застиранном и ветхом больничном белье.
Из-за серебряной полоскательницы выбежал крупный рыжий таракан и замер, ощутив над собою вселенское лицо Леопольда, окаменевшей маской придвинувшееся к нему, как если бы придвинулась вдруг к земле, вечно щерящаяся в небесах луна. Таракан стряхнул оторопь, сделал Леопольду усами «козу» и засеменил дальше от одной сладкой лужицы к другой, от крупинки сахара к капле пролитого соуса. Таракан суетливо двигался у самой кромки плиты, резко меняя направление и, словно щупами, шевелил усами; было отчетливо видно, как загоралась искрой его рыжая желудевая спинка. Леопольд сдернул полотенце и хлестнул по плите. Таракан исчез. Но, приглядевшись, Леопольд тут же обнаружил его на плитах пола: припадая на лапки, таракан бочком уволакивал под защиту плиты полураздавленное тельце. Неужели инстинкт не говорил ему: остановись – попался, придавили, пустили кишки, так уж пусть додавят до конца. Нет, бежит, спасается. И нога уже потянулась хрустнуть его тушку, но в последний момент Леопольд дал ему уползти – зачем? Теперь он забьется где-нибудь под печкой в самом темном и пыльном углу и, шевеля усами, будет обследовать искалеченное брюшко: и если бы мог, зализывал бы ранки, как кошка или собака; или перетягивал бы жгутом, как это делает человек, чтобы остановить кровь. У таракана нет крови, нет жгута и заживляющей слюны – полная беспомощность, лег в щель и жди смерти. Боль нестерпимая, – временами затухает, и это приносит несказанное облегчение, почти блаженство. Нет у него больше с этим миром ни счетов, ни расчетов, никому, ничего и нисколько он не должен – рассчитался со всеми сполна. Когда гибнешь, только и живешь.
Мысли о смерти впервые поразили Леопольда. Казалось, еще только вчера, материнское обожание маленького Польди, безудержное и назойливое, сменилось ревнивым вниманием друзей, приходивших в восторг от его грубоватых шуток, остроумия, простонародной веселости, чем сверх меры были напичканы и его симфонии. Анна Мария затмила друзей своим трепетным благоговением, когда и в рот смотрит, и хороводы водит, и пылинки сдувает. Вершиной для него стало обожание сына – ничем не заменимое, необходимое как воздух. «Это как делается, папа?» – спрашивал малыш, чтобы записать свои первые детские сочинения. И приходил в восторг, когда Леопольд молниеносно, безо всяких усилий, твердой рукой вписывал в его тетрадь нужные по высоте и длительности ноты, бекары, бемоли, паузы, мелизмы. Решал «труднейшие» задачи гармонии, объясняя азы загадочного, еще непостижимого для Вольфганга контрапункта. Музыкант, композитор, мастер, а не просто отец. «За Богом сразу идет Папа», – твердил в восхищении малыш.
И вдруг чувство неловкости. Отец его не понимает, не успевает на слух следить за его мыслью, требует ноты и, слушая, как со шпаргалкой в руках, гневно чёркает в партитуре, раздражаясь непривычной гармонией, режущими слух диссонансами и цепенея от душевной боли сына, буквально захлестнувшей страницы симфонии g-moll (К.183). Эта боль вторгалась в сознание «мамаевой ордой» и в неистовстве рубила всё, что приподнимало от земли голову, что ей пыталось противостоять, – мгновение скорбного созерцания (почти детская жалоба), – и с новой силой, неудержимо, под самый корень, в азарте слепого наваждения, попирая, подминая помраченное сознание копытами… Ошеломленный отец не верил глазам – шутка, розыгрыш, мистификация? Садился за инструмент, что-то невнятно бормотал, напевал, проигрывал, предлагая правку на каждой странице; исключал крамольное, оскорбляющее галантный вкус, нарушающее пристойность салонной музыки. Правил, как будто можно править душевную рану. «То, что тебе не делает чести, пусть лучше останется неизвестным… В более зрелые годы, когда благоразумие возрастет, ты будешь рад, что её [симфонии соль минор] ни у кого нет, даже, если сейчас, когда ты пишешь, ты ею доволен». Вольфганг усердно кивал, соглашался и ничего не менял. У него пропала охота показывать отцу то, что им было написано не по заказу.
Леопольд не заметил этого или сделал вид, что не заметил. Втайне от всех он мучился: неужто вот она – старость. Похвалит сына, тот довольно усмехнется, поругает – пропустит мимо ушей. И Анна Мария ворчит, уже не замечая, что ворчит в его присутствии. И на службе его давно перестали воспринимать как соперника, перестали говорить при нем шепотом.
Что совсем мне непонятно, как не сумел Леопольд сделать карьеру при дворе, хотя имел для этого достаточно оснований: и солидный профессиональный уровень, и талант дипломата, не пил, был окружен друзьями-аристократами, обучая музыке их детей… Леопольд, безусловно, тонкий, глубокий, умный человек, наделенный необычайным музыкальным чутьем. Он, как музыкант, с поразительной быстротой достиг своего потолка и… остановился. Его сочинения отличали изобретательность, вкус, мелодичность, сочный юмор; они говорили о несомненном таланте, но оставались безличными – по плечу любому средней руки композитору. В этом суть: его личность не раскрылась в его сочинениях, превосходя их собственной глубиной, оригинальностью, выразительностью суждений… Это он понял не сразу – и мучился. Это казалось несправедливым. Не было ни одного композитора из его современников, произведения которых он не просмотрел бы в партитуре, если не удавалось услышать в концерте или исполнить самому. Он знал, чем они дышат, он овладел их секретами. К тому же он старательно изучал вкусы публики и умело, с приятностью для слуха им потрафлял… Но большой музыкант только начинает с мастерского подражания авторитетам и угождению публике, потом – переступает через тех и других. Но для Леопольда – тут его потолок. И если для гения он, скажем ему не в обиду, был мелковат и несамостоятелен, то для карьеры – слишком самолюбив и самобытен. Опять же, ну да – немец, а в моде итальянцы, да и характерец… Можно обольстить случайного встречного в охотку или преследуя конкретный интерес – разово, но не тех, с кем многие годы состоишь в одной придворной челяди.
Его истинный талант (и это стало настоящим везением для Вольфганга) проявил себя в преподавании музыки, увенчавшись двумя вершинами: В.А.Моцартом и «Школой скрипичной игры», изданной впервые в 1756 году (год рождения сына) И. Я. Лоттером в Аугсбурге и еще долгие годы после смерти Леопольда остававшейся востребованной в Европе, в том числе и в России.
Кто бы он был без него… (Написав эту безличную фразу, я вдруг понял, что она в такой же степени может относиться как к сыну, так и к отцу.) С сыном всё ясно, но представить себе жизнь Леопольда без Вольфганга – нельзя. Леопольд необычайно амбициозен. Провинциал, приехал в Зальцбург учиться юриспруденции; увлекся музыкой и очень быстро стал делать успехи, причем, неожиданно для самого себя. Он вдруг возомнил себя гением, жертвой обстоятельств, обделенным в детстве музыкальным образованием. И решил, что он сумеет догнать, у него получится. Он не будет ни спать, ни есть, но восполнит то, что недополучил; восполнит – и превзойдет своих сверстников, потом итальянцев, а потом и нынешних модных сочинителей. Подобные признания часто срывались у него с языка: «Ты знаешь, честь и слава – всё для меня… Это всегда было и останется моей целью». Ему льстило внимание «сильных мира». Он всегда гордился своими связями в высшем свете. Но кто бы из них стал водить знакомство с каким-то вице-капельмейстером захолустного оркестра из Зальцбурга, приглашать на обеды, осыпать подарками, вести переписку, если бы не… Этим нектаром, на который слетались все пчелки, шмели, мотыльки, осы, стрекозы, мухи и прочие, был маленький Вольфганг. Без него – никаких поездок по Европе, никаких приемов при европейских дворах Австрии, Франции, Англии, Италии, Пруссии… Да, отец много вложил в него, но и какова отдача? Жизнь провинциального музыканта обрела какой-то высший смысл. Сын стал его глазами, ушами, нервами, через которые он воспринимал мир. Отнять его, значит действительно отнять у отца жизнь.
Если долго и безуспешно о чем-то мечтаешь, не обладая в полной мере качествами, которые могли бы привести к осуществлению мечты, и вдруг это в избытке обнаруживаешь в собственном сыне, стоит лишь приложить немного ума и усилий – как тут не потерять голову. «Школу скрипичной игры» он создал для других, а Вольфганга – для себя. Отпустить его, значило бы для Леопольда, – и здесь он вполне искренен, если иметь в виду духовную сторону жизни, – испустить дух. Тут его не в чем упрекнуть, можно только посочувствовать. Их связь невольно заставляет нас вспомнить о сиамских близнецах: вместе жить невозможно и порознь уже не совсем жизнь. Разделившись после переезда Вольфганга в Вену и его женитьбы на Констанце, оба быстро сгорели. Отец четыре года спустя, а сын (вполовину его моложе) – через восемь лет. Как тут не вспомнить писание: дом, разделившийся сам в себе, падет. (Лк 11:17) Никто не знает ни истинного смысла собственной жизни, ни промысла Божьего. Интересно было бы понять, что испытывает клетка, делясь на две, если бы она была наделена сознанием и могла бы об этом рассказать?..
Не сумел Леопольд отпустить сына и понять, что они с ним больше не одно целое – у каждого своя судьба. И сколько тому примеров слепого родительского чувства вседозволенности, как же – он отец. Не дай-то бог ослушаться или поступить по-своему. Родитель сразу же утрачивает здравый смысл и в упор перестает видеть что-либо, кроме как покушения на его авторитет, попытку ущемить его в законном праве властвовать над душами своих детей. Леопольда мне искренне жаль. Но если человек встал на путь гибели, им никто уже не будет услышан.
В самом начале знакомства с Веберами сын делает отцу неожиданное признание: «Завтра обязан выйти [после болезни], так как домашняя нимфа м-ль Пьеррон, моя уважаемая ученица, будет долбить концерт графини Лютцов на французском концерте в понедельник. Ради моей величайшей Prostitution[14 - Проституция или (перен.) проституирование.], я буду также выдавать что-то нарубленное и во всеоружии чеканить Prima fista[15 - (ит.) или Prima vista – зд.: с листа]; ибо я урожденный бренчатель [на клавире] и не знаю ничего другого как лупить по клавишам!» Если это выразить одним словом, то отец услышал бы в его признании sos! Но он не услышал. А за неделю до этого в постскриптуме письма матери Вольфганг в раздражении объясняет отцу: «Естественно, что я не смог закончить заказ… у меня не было ни одной спокойной минуты. Я могу сочинять только ночью. Стало быть, не в состоянии рано вставать и всегда быть расположенным к работе. Я мог бы, конечно, заниматься весь день пачкотней, но… не хочу краснеть, если это будет подписано моим именем. И потом, вы знаете, что я испытываю отвращение, когда пишу для инструмента (который не выношу)».
И опять он не был услышан. А еще раньше, за неделю до этого, он впервые высказал отцу откровенно и недвусмысленно свою позицию в отношении будущего: «Пусть преподавание останется людям, которые ничего больше не могут, как только играть на клавире. Я же композитор, и рожден, чтобы стать капельмейстером. Я не должен (говорю это без фанаберии, ибо я это чувствую как никогда прежде) похоронить свой Talent к композиции, которым Господь, по своей доброте, меня наделил. Но такое может случиться со мной при обилии всякого рода учеников, при том что и сама эта metier[16 - (фр.) ремесло, профессия] слишком беспокойная».