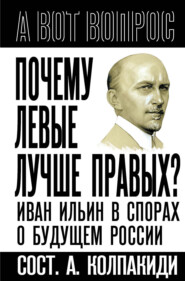По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Европейская герилья. Партизанская война против НАТО в Европе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Европейская герилья. Партизанская война против НАТО в Европе
Марат Владиславович Нигматулин
Александр Иванович Колпакиди
Прямое действие (Алгоритм)
Шестидесятые-девяностые годы прошлого века в Европе часто представляют золотым веком: росла экономика, а с ней и уровень жизни, высшее образование и медицина стали доступны массам, процветало социальное государство, а тёмное тоталитарное прошлое с его национализмом и ненавистью постепенно забывалось…
Однако в реальности не всё было так гладко. На фоне беспрецедентного роста уровня жизни в Европе поднималось новое, невиданное доселе движение рабочих и студентов. Италию, Францию, Британию сотрясали многомиллионные забастовки. Восставали студенты. Тысячи молодых людей по всей Европе бросали учёбу, карьеру, семьи – и уходили в подполье, чтобы с оружием в руках сражаться за социализм.
Их главными врагами стали НАТО, капитализм. Американская гегемония.
Кто-то из них героически погиб в тюрьмах и перестрелках. Кто-то предал идеалы юности и вошёл в либеральный истеблишмент. А кто-то так и продолжает борьбу до сих пор – иногда сменив пистолет на перо, а иногда так и не сложив оружия.
Эта книга рассказывает о левом подполье в странах Западной Европы в 1960-1990-е годы. О «Красных бригадах» в Италии и «Фракции Красной Армии» в ФРГ, об ирландском, баскском и каталанском национально-освободительном движении. Про герилью во Франции и революционную борьбу британских анархистов. Про революционеров-экспроприаторов из Дании и подпольщиков Бельгии, про греческих партизан и революционных пиратов из Португалии.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Колпакиди, Марат Нигматулин
Европейская герилья: партизанская война против НАТО в Европе
© Колпакиди А.И., 2023
© Нигматулин М. В., 2023
Две части наследия 1968 года: левые между постмодернистским экскапизмом и городскими герильями
Сергей Соловьёв
Вокруг наследия 1968 года продолжают идти дискуссии, и не только по причине минувшего полувекового юбилея событий «студенческой революции». Массовая политизация студенческой молодежи в, казалось бы, благополучной Европе, ставший культурной нормой антикапитализм, изменения в системе образования – все это продолжает привлекать внимание. С точки зрения культурных изменений, события 1968 года до сих пор во многом продолжают определять нашу жизнь. Достаточно вспомнить кризис традиционной семьи, который начался еще до 1968 года, но именно в конце 1960-х гг. старая модель патриархальной семьи стала уходить в прошлое. В этой статье речь пойдет прежде всего не о культуре, а о политике, причем в первую очередь о политических и теоретических последствиях 1968 г. для левого движения и левой мысли.
То, что события 1968 г. во многом определили культурные трансформации последней трети ХХ века – неоспоримый факт [Hobsbawm, 1995: 331–335], но их политические последствий остаются предметом дискуссий. Исторический социолог М. Манн в последнем томе своей амбициозной тетралогиии «Источники социальной власти» события 1968 г. вовсе не упоминает (как и Западную Европу в целом) [Mann, 2012], а Иммануил Валлерстайн придает им решающее значение [Wallerstaein, 1996: 171]. Для левых 1968-й стал частью основополагающего мифа, который разделяется и частью либерального истэблишмента, часть которого составляют бывшие левые (Й. Фишер, Д. Кон-Бендит и многие другие).
Согласно основной гипотезе статьи, 1968 г. стал для западных (прежде всего европейских) левых тяжелейшим историческим поражением, проявившимся и на уровне организации, и, что оказалось еще более тяжелым по долгосрочным последствиям, на уровне теории. Задача данной статьи заключается в том, чтобы показать два важнейших явления, которые не вписываются в распространенные мифы о 1968-м годе: теоретический и мировоззренческий кризис левых, с одной стороны, и ультрарадикальную попытку его преодоления, с другой.
В связи с используемой далее терминологией следует сделать важное замечание. Слово «левый» стало очень удобным – оно лишено конкретики и подразумевает лишь очень условную политическую окраску. Вроде бы все знают, кто такие «левые», но под этим обозначением могут уживаться не просто различные – но прямо противостоящие друг другу феномены. Одно из последствий 1968 года в теории и политике заключается именно в том, что из понятия «левый» постепенно вымывалось конкретное содержание, становясь, говоря языком «новых левых», все более безопасным для капиталистической Системы. Поэтому дать точную дефиницию понятию «левый» оказывается невозможно, можно лишь подразумевать под ним критическую позицию по отношению к авторитарности, неограниченному рынку (но совершенно не обязательно – капитализму как таковому), государственной диктатуре и угнетению. Звучит абстрактно, но значение понятия «левый» размыто настолько, что любая более конкретная формулировка оставит за бортом ряд политических структур, движений и персоналий, которые идентифицируют себя именно как левые.
«Забота о себе» против истины
Подъем левого движения в Европе конце 1960-х годов, пиком которого стал 1968 г., уже в начале 1970-х сменился спадом. В течение этого десятилетия в идеологической борьбе и государственной экономической политике решительно победил неолиберализм: сначала в Чили, а затем и в странах центра, в Великобритании и США [Harvey, 2007: 39–63]. С развалом СССР победа неолиберализма над левыми, казалось, стала окончательной.
Большая часть левых – в основном традиционные социал-демократы и еврокоммунисты, а также активисты студенческих выступлений – более или менее успешно инкорпорировались в существующую систему, отказавшись от значительной доли или от всех своих программных требований и принципов. Такой стремительный отказ от борьбы и признание поражения после всех политических сражений XIX и первых двух третей ХХ в. объясняется не только размыванием традиционной опоры левых – промышленного пролетариата, – но и теоретической деградацией левого движения.
Предпосылки бегства от действительности в работах левых теоретиков можно найти еще до 1968 г. Рауль Ванейгем, один из двух создателей ситуационизма, еще до поздних работ Мишеля Фуко, пришел к выводу о необходимости гедонизма как способа борьбы с капиталистическим отчуждением. «Безмятежная свобода наслаждения» [Vaneigem, 2001: 255] – вот его принцип, поставленный вне всякого исторического контекста, очередная апология сексуальной революции, высмеянная традиционными марксистами, в частности, историком Э. Хобасбаумом [Hobsbawm, 2007: 284–288]. Это принцип был положен в основу «радикальной субъективности» Ситуационистского интернационала. В конце этой книги Ванейгем предлагает стандартный набор анархистских принципов: отказ от организации, иерархии, постоянная революция в повседневной жизни (без объяснения). В книге звучат мантры, способные увлечь часть молодежи, но далекие от какого-либо анализа действительности: «Новая невинность – это строгое здание абсолютного уничтожения»;
«Варварство бунтов, поджоги, дикость толпы, излишества, повергающие в ужас буржуазных историков – вот лучшая вакцина против холодной жестокости сил правопорядка и иерархизированного угнетения» [Vaneigem, 2001: 269].
Эта ницшеанская публицистика нравилась части студентов, но, совершенно очевидно, не могла ни даже их увлекать надолго, ни хоть каким-то образом превратиться в собственно политическое действие [Hobsbawm, 2007: 341–343].
Сочинения второго лидера ситуацинистов – Ги Дебора – отличаются большей системностью, но также пронизаны словесным радикализмом и своего рода наивным анархизмом. Ги Дебор, например, традиционно обвиняет большевиков в том, что они становятся «группой профессионалов по абсолютному руководству обществом», разумеется, не указывая, что им следовало делать в ситуации 1917 г. и Гражданской войны. Общий вывод Дебора таков:
«Сплоченность общества спектакля определенным образом подтвердила правоту революционеров, поскольку стало ясно, что в нем нельзя реформировать ни малейшей детали, не разрушая всей системы».
Но этот вывод оказался далек от действительности. Зеленые движения, в которые мигрировали многие выходцы из протестов 1968 г., феминистское движение, борьба за права ЛГБТ показали, что там, где реформа не угрожает капитализму как таковому, она вполне может быть проведена и даже вполне встроиться в «спектакль». На взгляды ситуационистов можно было бы не обращать внимания, но если сам по себе «Ситуационистский интернационал» остался группой маргиналов, то настроения довольно большого количества протестантов его основатели выразили весьма точно.
Представления о тотальности «спектакля» сыграли с интеллектуалами 1968 г. злую шутку, парадоксальным на первый взгляд – а на деле вполне логичным – образом облегчив им встраиваемость в Систему. Правда, Дебор в конце жизни вполне справедливо констатировал, что «общество спектакля превратило восстание против себя в спектакль». Но вся проблема именно в том, что сам этот протест в значительной степени оказался просто спектаклем с самого начала. На самом деле во многих революционных актах содержался элемент спектакля или даже карнавала – достаточно заглянуть в воспоминания о событиях в 1905 г. или 1917 г. в России. Но спектакль в настоящих революциях был лишь элементом глубинных процессов, а ни в коем случае не самодостаточным явлением. Спектаклем, очевидно, никакую систему сломать невозможно.
Борис Кагарлицкий верно констатировал, что постмодернизм в виде «недоверия к большим нарративам» [Lyotard, 1984: XXIV] оказался выгоден тем интеллектуалам, которым надо было примирить карьеру при капитализме с увлечениями молодости. Кроме того, постмодернизм фактически означал категорический, агрессивный отказ от самой идеи преобразования общества – от целостного проекта его преобразования. Что взамен? – Фуко ясно высказался в названии одной из последних книг – «Забота о себе», ставшей обоснованием отказа от политической борьбы, по сути, эскапизма. Бегство в личную жизнь, в том числе – в алкоголизм и наркоманию (судьба Ги Дебора, страдавшего алкоголизмом, тут весьма показательна), либо откровенная циническая позиция интеллектуалов, которые, сознавая порочный, эксплуататорский характер капиталистического общества, готовы мириться с ним при условии личной выгоды, конечно. Эта циническая позиция как главная характеристика современной идеологический ситуации была разобрана в первой работе С. Жижека «Возвышенный объект идеологии»:
«Такой цинизм не есть откровенно аморальная позиция, скорее тут сама мораль поставлена на службу аморализму; типичный образец циничной мудрости – трактовать честность и неподкупность как высшее проявление бесчестности, мораль – как изощреннейший разврат, правду – как самую эффективную форму лжи <…>. Циническая реакция состоит в утверждении, что легальное обогащение гораздо эффективнее, чем разбой, да и к тому же охраняется законом».
Этот цинизм – прямое следствие той идеологической деформации, которая была вызвана посмодернистской рефлексией над поражением левых после 1968 г.
В свою очередь, такая позиция ителлектуалов привела к тому, что сама их роль в политике снизилась. Если до конца 1980-х годов интеллектуалы часто выступали как лица политической оппозиции, то затем они уступили место деятелям шоу-бизнеса не в последнюю очередь именно из-за отказа от просветительской позиции (а также, конечно, из-за неолиберальной деполитизации, особенно усилившейся после краха СССР [Hobsbawm, 2017: 241–243]). Феномен «марксизма без пролетариата» – интеллектуалов, терявших связь с непосредственной политической практикой – появился уже в довоенные годы, но именно в канун 1968 г. «утратил “нерв” своей актуальности – конкретный характер революционной альтернативы капитализму» [Дмитриев, 2004: 477], потеряв связь с массовым движением рабочего класса, заменить который бунтующие студенты не смогли. И если в начале 1960-х политическая и просветительская миссия интеллектуала виделась крайне важной, то сейчас он выступает прежде всего просто как часть «среднего класса». В 1961 г. известный экономист-максист Пол Баран писал:
«Чем реакционнее правящие круги, тем вероятнее, что существующий общественный порядок препятствует освобождению, тем сильнее пропитывается его идеология анти-интеллектуальными и иррациональными настроениями, а также предрассудками. И тем сложнее становится для интеллектуала противостоять общественному давлению, идеологии правящего класса и искушению пожить уютной и сытой жизнью конформистов-работников умственного труда. В таких условиях настоять на функциях интеллектуала и акцентировать его роль в обществе становится делом исключительной важности. Поскольку именно в этих условиях на его долю выпадает ответственная и одновременно почётная миссия сохранения традиций гуманизма, разума и прогресса, которые являются нашим самым ценным наследием, вынесенным из всей истории человечества в целом».
В эпоху господства постмодернизма и неолиберализма эти слова выглядели вопиющим анахронизмом, однако в последние годы наблюдаются попытки вернуть левым интеллектуалам их статус и ответственность, диктуемую просветительской традицией, причем именно в форме борьбы с последствиями постмодернизма и неолиберализма.
В этой связи следует вспомнить блистательную книгу Ж. Брикмона и А. Сокала «Интеллектуальные уловки», которая для понимания и разоблачения постмодернизма является обязательным чтением. Книга эта была написана по следам знаменитой «мистификации Сокала» 1996 г., когда математик левых взглядов Алан Сокал опубликовал в известном журнале постмодернистской направленности совершенно абсурдный текст, принятый редакцией на ура. Книга демонстрирует полную бессмысленность постмодернистского «дискурса» с помощью научного рассмотрения терминологии, используемой Ж. Делезом, Ф. Гваттари, Ж. Лаканом, Ж. Бодрийяром и их последователями. В постмодернизме авторы видят «vulgate that mixes bizarre confusions with overblown banalities» «смешение странных недоразумений и непомерно раздутых банальностей», подчеркивая, что помимо прочего иррационализм привел левых интеллектуалов к отказу от политической ангажированности или к превращению в «подобострастных защитников» «servile advocates» капитализма [Sokal, Bricmont, 2003: 197–198]. И хотя авторы специально отмечают в начале книги, что их мишенью был лишь «эпистемологический релятивизм, а именно идея, которая, по крайней мере, когда выражена отчетливо, состоит в том, что современная наука есть не более, чем “миф”, “повествование”, или “социальная конструкция”».
Важно отметить, что оба автора считают себя левыми, более того, «старыми левыми». Алан Сокал в послесловии к своей статье-мистификации написал:
«Я признаю, что я – растерявшийся старый левый, который никогда полностью не понимал, как деконструкция должна была помочь рабочему классу. И еще я умудренный опытом ученый, который наивно верит, что существует внешний мир, что существуют объективные истины об этом мире, и что моя работа заключается в том, чтобы открыть некоторые из них».
В 2018 г. мистификация Сокала была повторена. Ряд научных журналов принял к публикации заведомо абсурдные тексты якобы по гендерной теории, сознательно сконструированные Джеймсом Линдси, Хелен Плакроуз и Питером Богоссяном в соответствии с «правильными» идеологическими заповедями – новое доказательно деградации гуманитарных наук [Lindsay, 2018]. И все многочисленные попытки как-то оправдать эту ситуацию представляют собой затушевывание очевидности: научные журналы опубликовали полную чушь только потому, что она укладывалась в систему определенных идеологических ожиданий. Это ровным счетом то же самое, что публикация в советских официозных журналах бессмысленных текстов с набором ссылок на «классиков марксизма» и решения последнего съезда КПСС. Разумеется, фальсификации встречаются и в естественнонаучных журналах. Но псевдонаука (в данном случае вернее – паранаука) получила распространение в гуманитарных исследованиях именно потому, что в результате постмодернистского поворота оказались сознательно дискредитированы принципы демаркации научного и вненаучного знания.
Дискредитация понятия истины и науки как процесса ее постижения – при всех необходимых оговорках об отличиях гуманитарных наук от естественных, «теоретической нагруженности факта», неизбежной ангажированности ученых – приводит к деградации науки, ее отрыву от реальности и распространения откровенного шарлатанства как в масс-медиа и книжных магазинах, так и в рейтинговых научных журналах с высоким индексом цитируемости. Либо наука ищет истину – и тогда можно вести содержательные дискуссии о самом этом процессе, либо наука вырождается в схоластику и чисто коммерческое предприятие, к приращению человеческого знания и общественной пользе не имеющее никакого отношения. И подобный поворот зачастую ассоциируется именно с «левой» мыслью, которая отстаивает права меньшинств и отрицает постижимость истины с обязательными ссылками на Фуко, Барта, Лиотара, Бодрийяра и других постмодернистов, но при этом продолжает столь же настойчиво ссылаться на Маркса и даже Ленина [Jameson, 2008: 71–72, 203–206]. Такое превращение революционной теории в безобидный текст – оказалось даже лучшим способом борьбы с марксизмом, чем прямой запрет.
Но дело не только в тупиковости и беспомощности постмодернистской гносеологии, хотя отказ от истины как проявления «господства» означал отказ от исследования социальной действительности, а ведь именно научность в противовес утопии со времен Маркса определялась как главное преимущество левых. «Постмодернистские левые» не могут дать ответа на вопрос: как можно надеяться на борьбу с Системой, если заведомо опираться исключительно на представителей меньшинств, как того требовал еще Маркузе в «Одномерном человеке» [Marcuse, 2007: 260–261], а вслед за ним Фуко, Делез и их последователи? Меньшинства, безусловно, должны получить свои права, но это может состояться и состоялось в рамках капиталистической системы. Ничего специфично революционного тут нет. Такая же ситуация была и с еще одной группой, которую нельзя назвать меньшинством – с женщинами. Феминизм на Западе в целом одержал победу – пусть с серьезными оговорками (например, женское тело в массовой культуре остается прежде всего сексуальным объектом) – без демонтажа капиталистической системы. Капитализм перестроился, местами болезненно, но перестроился. Но только в странах капиталистического центра, для большинства жителей стран «золотого миллиарда», а в остальном мире – при наличии переходных форм – господствует самая зверская эксплуатация, в том числе и женского труда. В самих странах Европы сверхэксплуатации подвергаются трудовые мигранты. Но парадоксальным образом именно такой целостный взгляд на капитализм оказывается для многих левых невозможен.
Характерна в этой связи краткая история антиглобалистского движения. В момент своего расцвета оно пользовалось поддержкой десятков миллионов человек. Борьба против транснациональных корпораций и защищающих их интересы правительств смогла объединить весьма разнородные политические силы. Но отказ от постановки конкретных политических целей, от борьбы за власть, продиктованный как раз «традициями» и идеалами революции 1968 года, быстро вызвал стагнацию движения. Более того, вскоре выяснилось, что интересы антиглобалистских групп из стран «золотого миллиарда» и стран бывшего «восточного блока», Африки, Латинской Америки – различаются [Tarasov, 2008a]. А в этом различии сказались как раз новые классовые различия, не проанализированные и проигнорированные большинством антиглобалистских лидеров и участников движения. Примечателен факт, что в его рамках было создано немало ярких работ, посвященных анализу и критике неолиберализма. Однако теоретических исследований, выходящих за эти рамки, ни в области политики, ни в области экономики практически не появилось. Из анализа неолиберализма выводов сделано не было – если не считать общегуманистический вывод о необходимости устранения этой угрожающей самой жизни на планете системы. Конечно, в этот период создавались работы в рамках мир-системного анализа и концепции «периферийного капитализма», но эти теории возникли задолго до самого антиглобализма. В результате отсутствия политической программы, непонимания организационных перспектив, расколов и дрязг антиглобалистское движение к концу первого десятилетия XXI века бесславно сошло на нет. И причина этому (помимо прочих факторов) – некритическое принятие худшей части «наследия 1968 года» – отказа от «иерархии» в организационной работе и от борьбы за власть. Неслучайно в Европе и США настолько силен рост правых популистских движений (например, «Альтернатива для Германии», «Национальный фронт» во Франции и т. п.) – они занимают нишу, добровольно оставленную левыми [Kagarlitsky, 2017: 73]. Это становится заметно не только при анализе электоральных успехов, но и при исследовании концепций, которыми руководствуются как левые политики (пусть и не напрямую), так и многие левые теоретики.
Случай Валлерстайна
Ярчайшим примером мифологизации 1968 г. являются взгляды одного из самых известных левых мыслителей современности – американского социолога Иммануила Валлерстайна. Его мир-системный анализ, основанный на синтезе элементов марксизма, теорий зависимого капитализма и периферийного капитализма, а также взглядов Ф. Броделя в последние два десятилетия оказался для многих левых теоретиков тем же, чем ортодоксальный марксизм был в первой половине ХХ века. Анализ его концепции интересен именно в связи с тем, как некритическая идеализация наследия 1968 г. приводит к массе противоречий в самой теории и ее идеологизации, которая, в свою очередь, ставит под вопрос достоверность концепции как таковой.
Для Валлерстайна революция 1968 г. оказывается второй по-настоящему мировой революцией после европейских революций 1848-49 гг. Как известно, обе эти революции потерпели поражение, более того, обе они оказали куда меньшее влияние на страны за пределами Европы, чем французская революция конца XVIII в. и русская революция 1917 г., действительно повлиявшие на массу стран на разных континентах.
С точки зрения Валлерстайна главной ошибкой почти всех противников капитализма до середины XX века, всех, как он их называет, антисистемных движений, было стратегическое стремление к политической власти. Добившись власти, они сталкивались с ограниченностью возможностей государства в мир-системе. Выходило, что захват власти (революция) представлял собой не более чем реформу системы: «Восстание как технический прием срабатывало лишь на окраинах центральной власти, особенно тогда, когда бюрократия центра вступала в фазу распада».
Валлерстайн здесь игнорирует как опыт буржуазных революций – для него они представляют собой лишь вариации «межбуржуазной борьбы»), – так и опыт рабочих движений (в том числе восстаний) в Европе и США XIX в. По Валлерстайну, капиталисты сами предложили [Wallerstein, 1996: 171] уступки рабочим в целях сохранения стабильности системы: последняя в его изображении оказывается просто-таки саморегулирующейся субстанцией. Тот факт, что эти уступки были вырваны в результате тяжелейшей борьбы, он отметает. Согласно Валлерстайну, при капитализме «мотивации к бунту усиливались, несмотря на то, что вероятность успеха, возможно, объективно уменьшилась». Победивших восстаний низов в докапиталистическую эпоху, которые бы настолько сильно изменили лицо мир-системы, как революционные движения XIX – ХХ веков, историки просто не знают. Но Валлерстайн тут не просто совершает грубую историческую ошибку (точнее сказать – передергивание), он просто ретроспективно экстраполирует опыт поражения 1968 года на остальные революционные движения прошлого и будущего, закономерно приходя к пессимизму относительно их возможностей.
Положительный опыт он признает только за теми антисистемными движениями, которые не пришли к власти и воздействовали на подрыв политической стабильности исторического капитализма вопреки тем, кто «укреплял систему», захватывая власть [Wallerstein, 1996: 70]. Таким образом, получается, что и революция в октябре 1917 г. и, например, война во Вьетнаме, по-Валлерстайну, – не подрывали стабильность капиталистической системы? Но как фактически можно доказать стремление к накоплению капитала в России после той же Октябрьской революции? Игнорируя проблему способа производства и классовых отношений внутри страны, Валлерстайн приходит к таким обобщениям, которые, по сути, обесценивают весь анализ. Конечно, «социалистический лагерь» не имел к социализму «по Марксу», к котором не должно было быть ни классов, ни эксплуатации, ни в конечном итоге государства, никакого отношения. Но капитализмом он от этого не становится! Но Валлерстайну важно показать, что антисистемные (революционные) движения включились в логику капитала и не смогли выйти за пределы мир-системы, поэтому он просто вопреки огромному количеству фактов объявляет страны советского блока капиталистическими, так как они были включены в капиталистическую мир-систему, то есть – просто сохраняли экономические отношения с остальным миром. И с теоретической, и с фактической точек зрения такая позиция не выдерживает критики.
Подобная историческая несуразица выходит потому, что Валлерстайн не учитывает, как на самом деле выведенные за пределы капитализма (пусть и не в социализм) страны заставляли его (капитализм) меняться, становиться более социальным, создавать welfare state, словом, самореформироваться [Hobsbawm, 1995: 84]. И как эта добродушная маска слетела с капитализма, когда после падения советской системы восторжествовал неолиберализм.
По Валлерстайну, антисистемные движения, ошибались не только в том, что стремились к власти. Они ошибались еще и в том, что опирались на господствующую идеологию накопления капитала. Эта идеология, с точки зрения Валлерстайна – универсализм: «главная опора идеологического небосвода исторического капитализма». Под универсализмом Валлерстайн понимает три разные вещи, которые у него сливаются воедино. Во-первых, это идеология модернизации, связываемая с идеей прогресса (добавим – линейного прогресса), которая подчинила и антисистемные движения, обрядив их в идеологическое одежды Просвещения. Во-вторых, идея универсальной культуры, по сути – культурный империализм, особенно вдохновляющий «обслуживающий аппарат» накопителей капитала – средние слои, «меритократию», которая, согласно Валлерстайну, и составляет 15–20 % получивших выгоду от капиталистической экспансии – наряду с предпринимателями. И, наконец, в-третьих, «комплекс представлений о том, что можно познать и как это познать.<…> Существуют значимые общие утверждения о мире – физическом, социальном, – которые универсально и постоянно верны и цель науки – поиск этих общих утверждений». Таким образом, универсализм «требует <…> почтения к неуловимому, но якобы реальному феномену истины». Поиск истины – не «бескорыстная добродетель», а «корыстная рационализация», он «как минимум созвучен сохранению иерархически неравной социальной структуры в ряде специфических отношений» [Wallerstein, 1996: 81–82].
Марат Владиславович Нигматулин
Александр Иванович Колпакиди
Прямое действие (Алгоритм)
Шестидесятые-девяностые годы прошлого века в Европе часто представляют золотым веком: росла экономика, а с ней и уровень жизни, высшее образование и медицина стали доступны массам, процветало социальное государство, а тёмное тоталитарное прошлое с его национализмом и ненавистью постепенно забывалось…
Однако в реальности не всё было так гладко. На фоне беспрецедентного роста уровня жизни в Европе поднималось новое, невиданное доселе движение рабочих и студентов. Италию, Францию, Британию сотрясали многомиллионные забастовки. Восставали студенты. Тысячи молодых людей по всей Европе бросали учёбу, карьеру, семьи – и уходили в подполье, чтобы с оружием в руках сражаться за социализм.
Их главными врагами стали НАТО, капитализм. Американская гегемония.
Кто-то из них героически погиб в тюрьмах и перестрелках. Кто-то предал идеалы юности и вошёл в либеральный истеблишмент. А кто-то так и продолжает борьбу до сих пор – иногда сменив пистолет на перо, а иногда так и не сложив оружия.
Эта книга рассказывает о левом подполье в странах Западной Европы в 1960-1990-е годы. О «Красных бригадах» в Италии и «Фракции Красной Армии» в ФРГ, об ирландском, баскском и каталанском национально-освободительном движении. Про герилью во Франции и революционную борьбу британских анархистов. Про революционеров-экспроприаторов из Дании и подпольщиков Бельгии, про греческих партизан и революционных пиратов из Португалии.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Колпакиди, Марат Нигматулин
Европейская герилья: партизанская война против НАТО в Европе
© Колпакиди А.И., 2023
© Нигматулин М. В., 2023
Две части наследия 1968 года: левые между постмодернистским экскапизмом и городскими герильями
Сергей Соловьёв
Вокруг наследия 1968 года продолжают идти дискуссии, и не только по причине минувшего полувекового юбилея событий «студенческой революции». Массовая политизация студенческой молодежи в, казалось бы, благополучной Европе, ставший культурной нормой антикапитализм, изменения в системе образования – все это продолжает привлекать внимание. С точки зрения культурных изменений, события 1968 года до сих пор во многом продолжают определять нашу жизнь. Достаточно вспомнить кризис традиционной семьи, который начался еще до 1968 года, но именно в конце 1960-х гг. старая модель патриархальной семьи стала уходить в прошлое. В этой статье речь пойдет прежде всего не о культуре, а о политике, причем в первую очередь о политических и теоретических последствиях 1968 г. для левого движения и левой мысли.
То, что события 1968 г. во многом определили культурные трансформации последней трети ХХ века – неоспоримый факт [Hobsbawm, 1995: 331–335], но их политические последствий остаются предметом дискуссий. Исторический социолог М. Манн в последнем томе своей амбициозной тетралогиии «Источники социальной власти» события 1968 г. вовсе не упоминает (как и Западную Европу в целом) [Mann, 2012], а Иммануил Валлерстайн придает им решающее значение [Wallerstaein, 1996: 171]. Для левых 1968-й стал частью основополагающего мифа, который разделяется и частью либерального истэблишмента, часть которого составляют бывшие левые (Й. Фишер, Д. Кон-Бендит и многие другие).
Согласно основной гипотезе статьи, 1968 г. стал для западных (прежде всего европейских) левых тяжелейшим историческим поражением, проявившимся и на уровне организации, и, что оказалось еще более тяжелым по долгосрочным последствиям, на уровне теории. Задача данной статьи заключается в том, чтобы показать два важнейших явления, которые не вписываются в распространенные мифы о 1968-м годе: теоретический и мировоззренческий кризис левых, с одной стороны, и ультрарадикальную попытку его преодоления, с другой.
В связи с используемой далее терминологией следует сделать важное замечание. Слово «левый» стало очень удобным – оно лишено конкретики и подразумевает лишь очень условную политическую окраску. Вроде бы все знают, кто такие «левые», но под этим обозначением могут уживаться не просто различные – но прямо противостоящие друг другу феномены. Одно из последствий 1968 года в теории и политике заключается именно в том, что из понятия «левый» постепенно вымывалось конкретное содержание, становясь, говоря языком «новых левых», все более безопасным для капиталистической Системы. Поэтому дать точную дефиницию понятию «левый» оказывается невозможно, можно лишь подразумевать под ним критическую позицию по отношению к авторитарности, неограниченному рынку (но совершенно не обязательно – капитализму как таковому), государственной диктатуре и угнетению. Звучит абстрактно, но значение понятия «левый» размыто настолько, что любая более конкретная формулировка оставит за бортом ряд политических структур, движений и персоналий, которые идентифицируют себя именно как левые.
«Забота о себе» против истины
Подъем левого движения в Европе конце 1960-х годов, пиком которого стал 1968 г., уже в начале 1970-х сменился спадом. В течение этого десятилетия в идеологической борьбе и государственной экономической политике решительно победил неолиберализм: сначала в Чили, а затем и в странах центра, в Великобритании и США [Harvey, 2007: 39–63]. С развалом СССР победа неолиберализма над левыми, казалось, стала окончательной.
Большая часть левых – в основном традиционные социал-демократы и еврокоммунисты, а также активисты студенческих выступлений – более или менее успешно инкорпорировались в существующую систему, отказавшись от значительной доли или от всех своих программных требований и принципов. Такой стремительный отказ от борьбы и признание поражения после всех политических сражений XIX и первых двух третей ХХ в. объясняется не только размыванием традиционной опоры левых – промышленного пролетариата, – но и теоретической деградацией левого движения.
Предпосылки бегства от действительности в работах левых теоретиков можно найти еще до 1968 г. Рауль Ванейгем, один из двух создателей ситуационизма, еще до поздних работ Мишеля Фуко, пришел к выводу о необходимости гедонизма как способа борьбы с капиталистическим отчуждением. «Безмятежная свобода наслаждения» [Vaneigem, 2001: 255] – вот его принцип, поставленный вне всякого исторического контекста, очередная апология сексуальной революции, высмеянная традиционными марксистами, в частности, историком Э. Хобасбаумом [Hobsbawm, 2007: 284–288]. Это принцип был положен в основу «радикальной субъективности» Ситуационистского интернационала. В конце этой книги Ванейгем предлагает стандартный набор анархистских принципов: отказ от организации, иерархии, постоянная революция в повседневной жизни (без объяснения). В книге звучат мантры, способные увлечь часть молодежи, но далекие от какого-либо анализа действительности: «Новая невинность – это строгое здание абсолютного уничтожения»;
«Варварство бунтов, поджоги, дикость толпы, излишества, повергающие в ужас буржуазных историков – вот лучшая вакцина против холодной жестокости сил правопорядка и иерархизированного угнетения» [Vaneigem, 2001: 269].
Эта ницшеанская публицистика нравилась части студентов, но, совершенно очевидно, не могла ни даже их увлекать надолго, ни хоть каким-то образом превратиться в собственно политическое действие [Hobsbawm, 2007: 341–343].
Сочинения второго лидера ситуацинистов – Ги Дебора – отличаются большей системностью, но также пронизаны словесным радикализмом и своего рода наивным анархизмом. Ги Дебор, например, традиционно обвиняет большевиков в том, что они становятся «группой профессионалов по абсолютному руководству обществом», разумеется, не указывая, что им следовало делать в ситуации 1917 г. и Гражданской войны. Общий вывод Дебора таков:
«Сплоченность общества спектакля определенным образом подтвердила правоту революционеров, поскольку стало ясно, что в нем нельзя реформировать ни малейшей детали, не разрушая всей системы».
Но этот вывод оказался далек от действительности. Зеленые движения, в которые мигрировали многие выходцы из протестов 1968 г., феминистское движение, борьба за права ЛГБТ показали, что там, где реформа не угрожает капитализму как таковому, она вполне может быть проведена и даже вполне встроиться в «спектакль». На взгляды ситуационистов можно было бы не обращать внимания, но если сам по себе «Ситуационистский интернационал» остался группой маргиналов, то настроения довольно большого количества протестантов его основатели выразили весьма точно.
Представления о тотальности «спектакля» сыграли с интеллектуалами 1968 г. злую шутку, парадоксальным на первый взгляд – а на деле вполне логичным – образом облегчив им встраиваемость в Систему. Правда, Дебор в конце жизни вполне справедливо констатировал, что «общество спектакля превратило восстание против себя в спектакль». Но вся проблема именно в том, что сам этот протест в значительной степени оказался просто спектаклем с самого начала. На самом деле во многих революционных актах содержался элемент спектакля или даже карнавала – достаточно заглянуть в воспоминания о событиях в 1905 г. или 1917 г. в России. Но спектакль в настоящих революциях был лишь элементом глубинных процессов, а ни в коем случае не самодостаточным явлением. Спектаклем, очевидно, никакую систему сломать невозможно.
Борис Кагарлицкий верно констатировал, что постмодернизм в виде «недоверия к большим нарративам» [Lyotard, 1984: XXIV] оказался выгоден тем интеллектуалам, которым надо было примирить карьеру при капитализме с увлечениями молодости. Кроме того, постмодернизм фактически означал категорический, агрессивный отказ от самой идеи преобразования общества – от целостного проекта его преобразования. Что взамен? – Фуко ясно высказался в названии одной из последних книг – «Забота о себе», ставшей обоснованием отказа от политической борьбы, по сути, эскапизма. Бегство в личную жизнь, в том числе – в алкоголизм и наркоманию (судьба Ги Дебора, страдавшего алкоголизмом, тут весьма показательна), либо откровенная циническая позиция интеллектуалов, которые, сознавая порочный, эксплуататорский характер капиталистического общества, готовы мириться с ним при условии личной выгоды, конечно. Эта циническая позиция как главная характеристика современной идеологический ситуации была разобрана в первой работе С. Жижека «Возвышенный объект идеологии»:
«Такой цинизм не есть откровенно аморальная позиция, скорее тут сама мораль поставлена на службу аморализму; типичный образец циничной мудрости – трактовать честность и неподкупность как высшее проявление бесчестности, мораль – как изощреннейший разврат, правду – как самую эффективную форму лжи <…>. Циническая реакция состоит в утверждении, что легальное обогащение гораздо эффективнее, чем разбой, да и к тому же охраняется законом».
Этот цинизм – прямое следствие той идеологической деформации, которая была вызвана посмодернистской рефлексией над поражением левых после 1968 г.
В свою очередь, такая позиция ителлектуалов привела к тому, что сама их роль в политике снизилась. Если до конца 1980-х годов интеллектуалы часто выступали как лица политической оппозиции, то затем они уступили место деятелям шоу-бизнеса не в последнюю очередь именно из-за отказа от просветительской позиции (а также, конечно, из-за неолиберальной деполитизации, особенно усилившейся после краха СССР [Hobsbawm, 2017: 241–243]). Феномен «марксизма без пролетариата» – интеллектуалов, терявших связь с непосредственной политической практикой – появился уже в довоенные годы, но именно в канун 1968 г. «утратил “нерв” своей актуальности – конкретный характер революционной альтернативы капитализму» [Дмитриев, 2004: 477], потеряв связь с массовым движением рабочего класса, заменить который бунтующие студенты не смогли. И если в начале 1960-х политическая и просветительская миссия интеллектуала виделась крайне важной, то сейчас он выступает прежде всего просто как часть «среднего класса». В 1961 г. известный экономист-максист Пол Баран писал:
«Чем реакционнее правящие круги, тем вероятнее, что существующий общественный порядок препятствует освобождению, тем сильнее пропитывается его идеология анти-интеллектуальными и иррациональными настроениями, а также предрассудками. И тем сложнее становится для интеллектуала противостоять общественному давлению, идеологии правящего класса и искушению пожить уютной и сытой жизнью конформистов-работников умственного труда. В таких условиях настоять на функциях интеллектуала и акцентировать его роль в обществе становится делом исключительной важности. Поскольку именно в этих условиях на его долю выпадает ответственная и одновременно почётная миссия сохранения традиций гуманизма, разума и прогресса, которые являются нашим самым ценным наследием, вынесенным из всей истории человечества в целом».
В эпоху господства постмодернизма и неолиберализма эти слова выглядели вопиющим анахронизмом, однако в последние годы наблюдаются попытки вернуть левым интеллектуалам их статус и ответственность, диктуемую просветительской традицией, причем именно в форме борьбы с последствиями постмодернизма и неолиберализма.
В этой связи следует вспомнить блистательную книгу Ж. Брикмона и А. Сокала «Интеллектуальные уловки», которая для понимания и разоблачения постмодернизма является обязательным чтением. Книга эта была написана по следам знаменитой «мистификации Сокала» 1996 г., когда математик левых взглядов Алан Сокал опубликовал в известном журнале постмодернистской направленности совершенно абсурдный текст, принятый редакцией на ура. Книга демонстрирует полную бессмысленность постмодернистского «дискурса» с помощью научного рассмотрения терминологии, используемой Ж. Делезом, Ф. Гваттари, Ж. Лаканом, Ж. Бодрийяром и их последователями. В постмодернизме авторы видят «vulgate that mixes bizarre confusions with overblown banalities» «смешение странных недоразумений и непомерно раздутых банальностей», подчеркивая, что помимо прочего иррационализм привел левых интеллектуалов к отказу от политической ангажированности или к превращению в «подобострастных защитников» «servile advocates» капитализма [Sokal, Bricmont, 2003: 197–198]. И хотя авторы специально отмечают в начале книги, что их мишенью был лишь «эпистемологический релятивизм, а именно идея, которая, по крайней мере, когда выражена отчетливо, состоит в том, что современная наука есть не более, чем “миф”, “повествование”, или “социальная конструкция”».
Важно отметить, что оба автора считают себя левыми, более того, «старыми левыми». Алан Сокал в послесловии к своей статье-мистификации написал:
«Я признаю, что я – растерявшийся старый левый, который никогда полностью не понимал, как деконструкция должна была помочь рабочему классу. И еще я умудренный опытом ученый, который наивно верит, что существует внешний мир, что существуют объективные истины об этом мире, и что моя работа заключается в том, чтобы открыть некоторые из них».
В 2018 г. мистификация Сокала была повторена. Ряд научных журналов принял к публикации заведомо абсурдные тексты якобы по гендерной теории, сознательно сконструированные Джеймсом Линдси, Хелен Плакроуз и Питером Богоссяном в соответствии с «правильными» идеологическими заповедями – новое доказательно деградации гуманитарных наук [Lindsay, 2018]. И все многочисленные попытки как-то оправдать эту ситуацию представляют собой затушевывание очевидности: научные журналы опубликовали полную чушь только потому, что она укладывалась в систему определенных идеологических ожиданий. Это ровным счетом то же самое, что публикация в советских официозных журналах бессмысленных текстов с набором ссылок на «классиков марксизма» и решения последнего съезда КПСС. Разумеется, фальсификации встречаются и в естественнонаучных журналах. Но псевдонаука (в данном случае вернее – паранаука) получила распространение в гуманитарных исследованиях именно потому, что в результате постмодернистского поворота оказались сознательно дискредитированы принципы демаркации научного и вненаучного знания.
Дискредитация понятия истины и науки как процесса ее постижения – при всех необходимых оговорках об отличиях гуманитарных наук от естественных, «теоретической нагруженности факта», неизбежной ангажированности ученых – приводит к деградации науки, ее отрыву от реальности и распространения откровенного шарлатанства как в масс-медиа и книжных магазинах, так и в рейтинговых научных журналах с высоким индексом цитируемости. Либо наука ищет истину – и тогда можно вести содержательные дискуссии о самом этом процессе, либо наука вырождается в схоластику и чисто коммерческое предприятие, к приращению человеческого знания и общественной пользе не имеющее никакого отношения. И подобный поворот зачастую ассоциируется именно с «левой» мыслью, которая отстаивает права меньшинств и отрицает постижимость истины с обязательными ссылками на Фуко, Барта, Лиотара, Бодрийяра и других постмодернистов, но при этом продолжает столь же настойчиво ссылаться на Маркса и даже Ленина [Jameson, 2008: 71–72, 203–206]. Такое превращение революционной теории в безобидный текст – оказалось даже лучшим способом борьбы с марксизмом, чем прямой запрет.
Но дело не только в тупиковости и беспомощности постмодернистской гносеологии, хотя отказ от истины как проявления «господства» означал отказ от исследования социальной действительности, а ведь именно научность в противовес утопии со времен Маркса определялась как главное преимущество левых. «Постмодернистские левые» не могут дать ответа на вопрос: как можно надеяться на борьбу с Системой, если заведомо опираться исключительно на представителей меньшинств, как того требовал еще Маркузе в «Одномерном человеке» [Marcuse, 2007: 260–261], а вслед за ним Фуко, Делез и их последователи? Меньшинства, безусловно, должны получить свои права, но это может состояться и состоялось в рамках капиталистической системы. Ничего специфично революционного тут нет. Такая же ситуация была и с еще одной группой, которую нельзя назвать меньшинством – с женщинами. Феминизм на Западе в целом одержал победу – пусть с серьезными оговорками (например, женское тело в массовой культуре остается прежде всего сексуальным объектом) – без демонтажа капиталистической системы. Капитализм перестроился, местами болезненно, но перестроился. Но только в странах капиталистического центра, для большинства жителей стран «золотого миллиарда», а в остальном мире – при наличии переходных форм – господствует самая зверская эксплуатация, в том числе и женского труда. В самих странах Европы сверхэксплуатации подвергаются трудовые мигранты. Но парадоксальным образом именно такой целостный взгляд на капитализм оказывается для многих левых невозможен.
Характерна в этой связи краткая история антиглобалистского движения. В момент своего расцвета оно пользовалось поддержкой десятков миллионов человек. Борьба против транснациональных корпораций и защищающих их интересы правительств смогла объединить весьма разнородные политические силы. Но отказ от постановки конкретных политических целей, от борьбы за власть, продиктованный как раз «традициями» и идеалами революции 1968 года, быстро вызвал стагнацию движения. Более того, вскоре выяснилось, что интересы антиглобалистских групп из стран «золотого миллиарда» и стран бывшего «восточного блока», Африки, Латинской Америки – различаются [Tarasov, 2008a]. А в этом различии сказались как раз новые классовые различия, не проанализированные и проигнорированные большинством антиглобалистских лидеров и участников движения. Примечателен факт, что в его рамках было создано немало ярких работ, посвященных анализу и критике неолиберализма. Однако теоретических исследований, выходящих за эти рамки, ни в области политики, ни в области экономики практически не появилось. Из анализа неолиберализма выводов сделано не было – если не считать общегуманистический вывод о необходимости устранения этой угрожающей самой жизни на планете системы. Конечно, в этот период создавались работы в рамках мир-системного анализа и концепции «периферийного капитализма», но эти теории возникли задолго до самого антиглобализма. В результате отсутствия политической программы, непонимания организационных перспектив, расколов и дрязг антиглобалистское движение к концу первого десятилетия XXI века бесславно сошло на нет. И причина этому (помимо прочих факторов) – некритическое принятие худшей части «наследия 1968 года» – отказа от «иерархии» в организационной работе и от борьбы за власть. Неслучайно в Европе и США настолько силен рост правых популистских движений (например, «Альтернатива для Германии», «Национальный фронт» во Франции и т. п.) – они занимают нишу, добровольно оставленную левыми [Kagarlitsky, 2017: 73]. Это становится заметно не только при анализе электоральных успехов, но и при исследовании концепций, которыми руководствуются как левые политики (пусть и не напрямую), так и многие левые теоретики.
Случай Валлерстайна
Ярчайшим примером мифологизации 1968 г. являются взгляды одного из самых известных левых мыслителей современности – американского социолога Иммануила Валлерстайна. Его мир-системный анализ, основанный на синтезе элементов марксизма, теорий зависимого капитализма и периферийного капитализма, а также взглядов Ф. Броделя в последние два десятилетия оказался для многих левых теоретиков тем же, чем ортодоксальный марксизм был в первой половине ХХ века. Анализ его концепции интересен именно в связи с тем, как некритическая идеализация наследия 1968 г. приводит к массе противоречий в самой теории и ее идеологизации, которая, в свою очередь, ставит под вопрос достоверность концепции как таковой.
Для Валлерстайна революция 1968 г. оказывается второй по-настоящему мировой революцией после европейских революций 1848-49 гг. Как известно, обе эти революции потерпели поражение, более того, обе они оказали куда меньшее влияние на страны за пределами Европы, чем французская революция конца XVIII в. и русская революция 1917 г., действительно повлиявшие на массу стран на разных континентах.
С точки зрения Валлерстайна главной ошибкой почти всех противников капитализма до середины XX века, всех, как он их называет, антисистемных движений, было стратегическое стремление к политической власти. Добившись власти, они сталкивались с ограниченностью возможностей государства в мир-системе. Выходило, что захват власти (революция) представлял собой не более чем реформу системы: «Восстание как технический прием срабатывало лишь на окраинах центральной власти, особенно тогда, когда бюрократия центра вступала в фазу распада».
Валлерстайн здесь игнорирует как опыт буржуазных революций – для него они представляют собой лишь вариации «межбуржуазной борьбы»), – так и опыт рабочих движений (в том числе восстаний) в Европе и США XIX в. По Валлерстайну, капиталисты сами предложили [Wallerstein, 1996: 171] уступки рабочим в целях сохранения стабильности системы: последняя в его изображении оказывается просто-таки саморегулирующейся субстанцией. Тот факт, что эти уступки были вырваны в результате тяжелейшей борьбы, он отметает. Согласно Валлерстайну, при капитализме «мотивации к бунту усиливались, несмотря на то, что вероятность успеха, возможно, объективно уменьшилась». Победивших восстаний низов в докапиталистическую эпоху, которые бы настолько сильно изменили лицо мир-системы, как революционные движения XIX – ХХ веков, историки просто не знают. Но Валлерстайн тут не просто совершает грубую историческую ошибку (точнее сказать – передергивание), он просто ретроспективно экстраполирует опыт поражения 1968 года на остальные революционные движения прошлого и будущего, закономерно приходя к пессимизму относительно их возможностей.
Положительный опыт он признает только за теми антисистемными движениями, которые не пришли к власти и воздействовали на подрыв политической стабильности исторического капитализма вопреки тем, кто «укреплял систему», захватывая власть [Wallerstein, 1996: 70]. Таким образом, получается, что и революция в октябре 1917 г. и, например, война во Вьетнаме, по-Валлерстайну, – не подрывали стабильность капиталистической системы? Но как фактически можно доказать стремление к накоплению капитала в России после той же Октябрьской революции? Игнорируя проблему способа производства и классовых отношений внутри страны, Валлерстайн приходит к таким обобщениям, которые, по сути, обесценивают весь анализ. Конечно, «социалистический лагерь» не имел к социализму «по Марксу», к котором не должно было быть ни классов, ни эксплуатации, ни в конечном итоге государства, никакого отношения. Но капитализмом он от этого не становится! Но Валлерстайну важно показать, что антисистемные (революционные) движения включились в логику капитала и не смогли выйти за пределы мир-системы, поэтому он просто вопреки огромному количеству фактов объявляет страны советского блока капиталистическими, так как они были включены в капиталистическую мир-систему, то есть – просто сохраняли экономические отношения с остальным миром. И с теоретической, и с фактической точек зрения такая позиция не выдерживает критики.
Подобная историческая несуразица выходит потому, что Валлерстайн не учитывает, как на самом деле выведенные за пределы капитализма (пусть и не в социализм) страны заставляли его (капитализм) меняться, становиться более социальным, создавать welfare state, словом, самореформироваться [Hobsbawm, 1995: 84]. И как эта добродушная маска слетела с капитализма, когда после падения советской системы восторжествовал неолиберализм.
По Валлерстайну, антисистемные движения, ошибались не только в том, что стремились к власти. Они ошибались еще и в том, что опирались на господствующую идеологию накопления капитала. Эта идеология, с точки зрения Валлерстайна – универсализм: «главная опора идеологического небосвода исторического капитализма». Под универсализмом Валлерстайн понимает три разные вещи, которые у него сливаются воедино. Во-первых, это идеология модернизации, связываемая с идеей прогресса (добавим – линейного прогресса), которая подчинила и антисистемные движения, обрядив их в идеологическое одежды Просвещения. Во-вторых, идея универсальной культуры, по сути – культурный империализм, особенно вдохновляющий «обслуживающий аппарат» накопителей капитала – средние слои, «меритократию», которая, согласно Валлерстайну, и составляет 15–20 % получивших выгоду от капиталистической экспансии – наряду с предпринимателями. И, наконец, в-третьих, «комплекс представлений о том, что можно познать и как это познать.<…> Существуют значимые общие утверждения о мире – физическом, социальном, – которые универсально и постоянно верны и цель науки – поиск этих общих утверждений». Таким образом, универсализм «требует <…> почтения к неуловимому, но якобы реальному феномену истины». Поиск истины – не «бескорыстная добродетель», а «корыстная рационализация», он «как минимум созвучен сохранению иерархически неравной социальной структуры в ряде специфических отношений» [Wallerstein, 1996: 81–82].