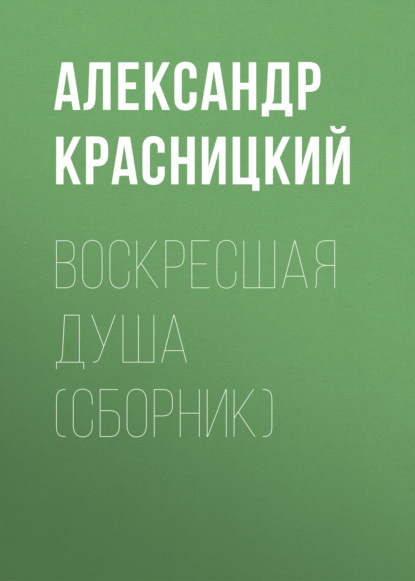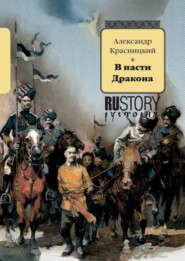По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воскресшая душа (сборник)
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Будто бы? А впрочем, все может быть… Тогда позвольте представиться. Кобылкин я. Что-с? Вам решительно ничего не говорит эта неблагозвучная фамилия?
Нейгоф много раз во время своего босячества слыхал это страшное для всех стоявших «вне закона» имя, но сталкиваться им никогда не приходилось.
– Да, понаслышке я знаю вас, – смущенно пробормотал он. – Что же вам от меня угодно?
– Если хотите – ничего, а то и очень многое-с. Но прежде всего я пришел справиться о состоянии вашего здоровья. С удовольствием вижу, что вы изволите поправляться.
– А почему это вас интересует?
– Много к тому поводов есть, а наипервейший тот, что я вас с кобрановских огородов вот в это телу полезное учреждение направил.
– Очень вам благодарен, – холодно произнес Нейгоф, – но все-таки не вижу причин…
– К знакомству со мной? Напрасно!.. Еще баснописец сказал: «Хорошие знакомства в прибыль нам». Да вы, ваше сиятельство, совсем молодцом стали! Красавец красавцем! Радуется душа моя о вас. Неужели отсюда опять на кобрановские огороды? Это было бы обидно… Поддержитесь, ваше сиятельство!.. Ну что хорошего на огородах? Не отрицаю, жизнь и в той среде имеет свою прелесть, но побаловались, и довольно…
– Помилуйте, да вам-то что за дело до меня?
– Есть дело, ваше сиятельство, есть! Я уже имел честь докладывать вам…
– Так говорите скорее, в чем оно… Извините, я прилягу.
– Пожалуйста, не стесняйтесь! С больного какой же спрос? А ведь Козодоев-то умер! – вдруг выпалил он и впился глазами в Нейгофа.
– Да, я знаю об этом, – совершенно равнодушно ответил граф. – Что же из того?
– Ничего… Я это к тому, что покойный, кажется, вашим хорошим знакомым был.
– Я видел этого человека лишь один раз в жизни, – произнес граф.
– Вот как? А я-то совсем другое думал. Умер он, умер!.. Так, может быть, вы знаете, как он умер?
– Я знаю только, что этого малоизвестного мне человека нет более на свете, – резко проговорил Нейгоф, – а как он умер и от чего – это меня совершенно не интересует.
Кобылкин глядел на него с удивлением.
– Однако, если не ошибаюсь, приемная-то дочка его, эта госпожа Шульц, навещает вас здесь?
– Да, навещает.
– И она ничего не говорила вам о смерти своего приемного батюшки?
– Она сказала только, что он умер и она теперь одинока.
– И больше ничего? – Мефодий Кириллович тихо свистнул. – Те-те-те-те! Вот оно дело-то какое! Та-ак! А вы, граф, видели паука? Да, конечно, видели. А видели, как он плетет свою паутину? Плетет он ее, а как сплетет, так в серединочку и засядет, и ждет, когда глупая муха пролетит и в его паутине запутается. Тут он на нее разом насядет, и давай наслаждаться… высасывать из мухи всю ее внутреннюю сущность. Высосет и бросит.
– К чему все это? – нетерпеливо сказал Нейгоф.
– А так, ни к чему… Бывает, что паук, помоложе да пошустрее, сам не работает, сетей не плетет, а просто выгоняет из паутины другого… Да и мало ли что еще на свете бывает… Однако вы дремлете… Не смею мешать… Спасибо вам большое…
– За что? – удивился Нейгоф.
– За просветление. Насчет многого вы меня просветили… на путь истинный, так сказать, направили. Прощения прошу за беспокойство. Имею честь кланяться. – Кобылкин почти насильно пожал руку Нейгофу и петушком побежал по проходу между койками. Отбежав несколько шагов, он возвратился и, наклоняясь к графу, шепнул: – А про паучка моего не забывайте… Знание этой – ну, как ее? – инсектологии, что ли, часто для нас, людей, не бесполезно… А за всем тем до свиданья.
Он ушел.
– Надоедливый старик! – чуть не крикнул ему вдогонку Нейгоф. – Что ему было нужно от меня?.. А Софья, Софья! Милая, несравненная, – шептал он, – такая же несчастная и отверженная, как и я… Только бы мне выздороветь!.. Уж я знаю, что мне делать…
XI
В чаду любви
С этого дня выздоровление графа быстро пошло вперед. Нейгоф чувствовал это и радовался.
«Скоро я снова буду на свободе! – мечтал он. – О, как хочу я теперь жить, как манит меня жизнь!.. Как хороша она!»
– Граф, да чего вы так рветесь на волю? – спрашивал его Барановский. – Полежали бы у нас подольше.
– Как чего? – вспыхивал Нейгоф. – Разве там, на воле, плохо? А у вас – та же тюрьма.
– Уж и тюрьма! Нет, граф, больница – не тюрьма!.. Поглядите на себя, что она с вами сделала, какой вы пришли и каким уйдете.
– Я понимаю, что вы хотите сказать… Да, пожалуй, вы правы, – с горечью в голосе сказал Нейгоф. – Чем я был в эти одиннадцать лет? Когда я оглядываюсь назад, на это свое прошлое, меня охватывает ужас. Одиннадцать лет жил на дне! Брр…
– Я боюсь, как бы вы опять не опустились на него.
– Никогда! Доктор, голубчик, если бы вы только могли заглянуть мне в душу, вы увидели бы, что я действительно стал совсем другим!
– Да, перемена в вас очень заметна. Только тут, думается мне, наша больница совершенно ни при чем… Тут виновник кто-то другой.
– Что вы хотите этим сказать? – смутился Нейгоф.
– Ну-ну, – ласково потрепал его по плечу Барановский. – Не буду, не буду. Ведь я, кажется, в самую деликатную жилку попал? Простите тогда. А все таки это хорошо, я искренне рад за вас! Тело ваше воскресло с нашей помощью, дух же воскрес с помощью чего-то другого, более нежного, более возвышенного. Теперь вам остается, воскреснув, не умирать снова… Но что это? Вы плачете?
Глаза Нейгофа действительно наполнились слезами.
– Да, я плачу! – воскликнул он. – Плачу и нисколько не стыжусь своих слез! Скажите, зачем вы, чужие люди, так добры ко мне?
– Да зачем нам быть к вам злыми?
– Не то… Ведь, знаете ли, семья меня отвергла… От меня отказались из-за сущих пустяков кровные родные; чтобы отомстить им, я стал бродягой, отребьем человеческим.
– Фу, какая глупость эта ваша месть! Видно, вы были тогда очень молоды.
– Мне было тогда двадцать пять лет. Но не в том дело, пусть это было глупо, пусть так. Дело в том, что никто из тех, кого называли когда-то моими родными, пальцем не шевельнул, чтобы заставить меня вынырнуть на поверхность. А между тем вот совсем чужие, как вы, и…
Он оборвал фразу и смолк.
– И эта молодая особа, которая навещает вас здесь? – сказал Барановский.