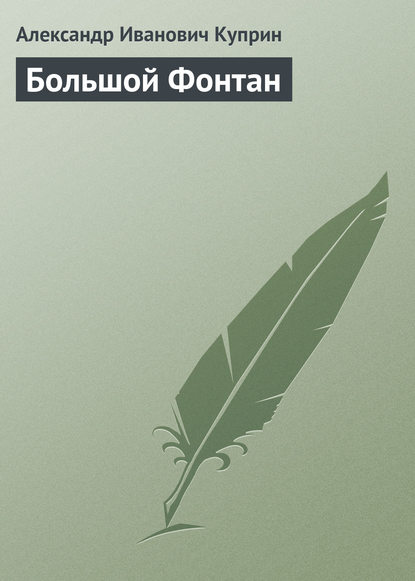По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большой Фонтан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Иванович Куприн
«Великая вещь дружба. И тем более она драгоценна, что становится в наше время редчайшим явлением.
Ужасна измена друга. Еще страшнее смерть его. Но неизмеримо горше, когда вернейшего и любимейшего друга выкрадут из вашего сердца, как часы из жилетного кармана. Надо ли говорить, что в этой тяжелой утрате роль похитителя всегда принадлежит женщине? Мы, мужчины, не только охотно терпим жениных подруг девичества, но даже дарим приязнью ее бывших поклонников. Женщина же скорее простит мужу его холостые романишки, чем потерпит в своем доме самого великодушного друга его молодости…»
Александр Иванович Куприн
Большой Фонтан
Великая вещь дружба. И тем более она драгоценна, что становится в наше время редчайшим явлением.
Ужасна измена друга. Еще страшнее смерть его. Но неизмеримо горше, когда вернейшего и любимейшего друга выкрадут из вашего сердца, как часы из жилетного кармана. Надо ли говорить, что в этой тяжелой утрате роль похитителя всегда принадлежит женщине? Мы, мужчины, не только охотно терпим жениных подруг девичества, но даже дарим приязнью ее бывших поклонников. Женщина же скорее простит мужу его холостые романишки, чем потерпит в своем доме самого великодушного друга его молодости.
Так вот и я навсегда и безнадежно потерял заветного дружка, Мишеньку Говоркова. Он исчез, погиб, выветрился, выдохся на моих глазах… А надо сказать, что был он самым убежденным холостяком, врагом семейной изнеженности нравов, свободолюбцем, человеком крупного таланта, железной воли и стальных нервов… Погубил его Большой Фонтан, полудачное, полукурортное приморское местечко под Одессой. О, если бы я мог предвидеть, что он, мощный северянин, не устоит перед колдовской отравой одесского большефонтанского юга! Я сумел бы отклонить, устранить беду. Но – увы! – наше человеческое предвиденье будущего, к несчастию, так еще ограниченно…
Дьявольская зараза пришла как раз в начале лета, в период цветения белой акации. Надо сказать, что на юге цветы ничем не пахнут или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой – капустой, жасмин – навозом. Одни розы благоухают так же, как и во всем мире. Но их мы трогать не будем: они царственно милостивы и недоступны. Белая акация – цветок колдовской, коварный и злобный.
Однажды утром неопытный северянин идет по дорожке Ковалевского парка и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда доселе не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем ноздри широко раздуваться и губы невольно улыбаться. Так пахнет белая акация.
Однако назавтра совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь Большой Фонтан, повинуясь дурацкой моде, продушен теми сладкими, крепкими, терпкими теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых в самом деле вертят носом и чихают чуткие собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными дешевыми, пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение недели.
Еще через день северянин начинает злобно ненавидеть белую акацию. Ее белые висячие гроздья повсюду: в садах, на улицах, в парках, в домах и в ресторанах; они вплетены в гривы извозчичьих лошадей, воткнуты в петлицы мужчин, пришпилены к женским волосам и бедрам, украшают вагоны трамваев, привязаны к собачьим ошейникам.
Нигде нет спасения от одуряющего цветка и от его возбуждающего, наркотического действия. Все Фонтаны – Малый, Средний и Большой – охвачены на несколько недель повальным безумием, одержимы какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки.
Таково свойство этого дьявольского растения!
Влюблены положительно все: люди, животные, насекомые, деревья, травы. И, кажется, даже неодушевленные предметы; влюблены юноши и девушки, отцы города и матроны, старики и старухи, отроки и отроковицы, хлебные маклеры, «бурженники» и лапетутники (две загадочные профессии, известные лишь в Одессе); реалисты и гимназистки, телефонистки и телеграфисты; городовые, горничные, солдаты, приказчики, биржевые зайцы, проститутки, чистильщики сапог, булочники, кельнерши, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики, торговки и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключается в аромате белой акации.
На коренных жителей эта болезнь действует сравнительно умеренно: так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка. Но свежему, приезжему северянину цветы белой акации несут преждевременную гибель.
Так случилось и с Мишенькой.
Он нанял комнату на даче Обутченко на Большом Фонтане, неподалеку от моря. У его окон росла акация: ее перистые ветви лезли в открытые окна, а ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ему на пол, на кровать и в чай.
Когда он основался на даче, весеннее злое поветрие было уже в полном разгаре. По вечерам на станции трамваев выплывало все мужское и женское население Фонтанов. Юноши и девицы ходили друг другу навстречу сплошными густыми массами, подобно рыбе во время метания икры.
«Я прибавила на десять фунтов». – «А я потеряла восемь». – «Какое сегодня было море. Просто шик!» – «Что вы мне морочите голову?»
Все смеялись, ворковали и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял сплошной треск семечек и любовный, бессмысленный, дрожащий лепет, подобный болботанию тетеревов на токовище. И акация, акация, акация…
Тут-то Мишенька Говорков и захватил свою болезнь, постигшую его в смертельной форме. Я уцелел. У меня была старая, надежная прививка.
Она – прекрасная одесситка, очаровательная Нина – приходилась дочерью пожилой даме, хозяйке столовой, где бедный Говорков питался скумбрией, баклажанами, помидорами и деревянным маслом, под видом прованского. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом, с несмолкаемым языком и с руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола; никакой работы она не признавала. У нее был яркий цвет лица, аппетитное тело, толстые губы, миндалевидные темные глава и молодость. Мать и она были схожи, как два экземпляра одной и той же пошлой книги: свежий и затасканный. Говорков был тонким наблюдателем и знатоком жизни. Но его уже не могли остановить зловещие предзнаменования будущего. Уподобился он летней мухе на липкой бумаге: и сладко, и противно, и… не улетишь…
О том, как он признался Нине, как просил благословения у мамаши и как его повенчали, – он ничего не помнил.
У него был жар в шестьдесят градусов, вздорный бред, слюнотечение и на лице неизменная идиотская улыбка.
Открытое недоброжелательство Нины очень скоро заставило меня расстаться с Говорковым. Тяжело и скучно быть предметом беспричинной женской ненависти. Я посетил моего друга только через год, поздней осенью. Шел дождь. Ветер дул в щели окон. Белая акация, – черт бы ее побрал! – облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивала беспорядочно вниз свои черные длинные стручья, качала головой и плакала слезами обиженной сводницы. Я не застал Нины: она уехала в город, отняв предварительно у мужа все деньги и заперев в чулан его зонтик, шляпу и калоши. Миша, пожелтевший и поседевший за это время, жаловался мне с тоской:
– Она говорит: «тудою», «сюдою» и «кудою». Она говорит: «он умер на чахотку», «он от меня ростом», «с тебя люди смеются», «зачини фортку» (закрой калитку), «я за тобою соскучилась». Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна, и на мои поправки она возражает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский, потому что Пушкин был одесситом и еще памятник ему стоит на Николаевском бульваре.
Ах! Она скупа, жадна и обжора. Она любит в одеждах яркие цвета, перья, мех и кружева, но сама неопрятна. Ее тянет всегда на улицу – улица родная стихия одессита. Она жестока и глупа, как гусеница, и терпеть не может животных и детей. Она ругается с прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне, и я вижу, что умственный уровень и такт одинаковы у моей жены и моей кухарки. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с Пересыпи и Молдаванки, и все они одесситы, и все они всё знают и всё умеют, и все они меня презирают, как кацапа, как верблюда, как вьючную клячу. Она сплетничает обо мне с горничными и с целым городом. И она же уверяет меня, что я – чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она пишет грубые анонимные письма как мне, так и моим знакомым. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди… Она…
Я не в силах был слушать дольше эту отчаянную исповедь. Я вскочил, я ударил по столу кулаком с такою силою, что на нем подпрыгнули все письменные принадлежности. Я чувствовал, что мои глаза пылают святым гневом. Я воскликнул:
– Миша, брат мой, нежный друг моей юности. Беги! Умоляю тебя, беги! Вот сейчас, сию минуту, как есть, без калош и шляпы беги со мною вместе. Деньги у меня есть. Петербургские журналы примут тебя с распростертыми объятиями… Бежим, о сердце моего сердца!
Но я уже видел, как он после мгновенной вспышки оседает, поникает, точно даже уменьшается в размерах. Он поглядел на часы и сказал:
– Поздно. Через полчаса она приедет. Давай простимся. Ты, я знаю, не осудишь меня. Я потерял всякие остатки воли и самолюбия. Это началось еще тогда… много десятков лет назад, сто лет назад… когда цвела акация… там… на Большом Фонтане… Прощай, брат. Обними меня покрепче на прощание…
Так мы больше никогда и не увиделись. Может быть, он и жив еще. Все равно, мир его милому праху.