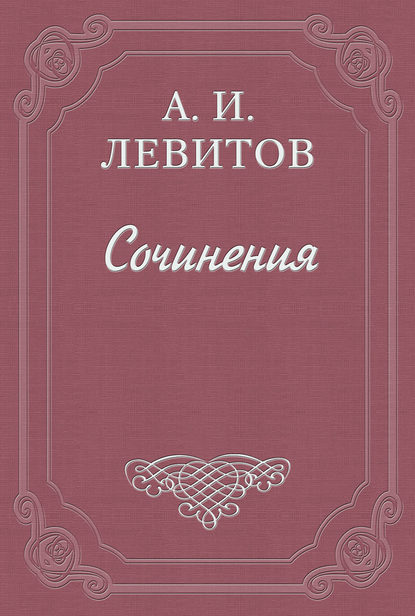По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расправа
Год написания книги
1862
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Расправа
Александр Иванович Левитов
«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.
Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…»
Александр Иванович Левитов
Расправа[1 - Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1, М., 1874, с. 33—52. Впервые опубликовано в журнале «Зритель», 1862, No 44, под заглавием «Мирской суд».]
I
Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.
Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо. На живую руку сбитые ворота с громким скрипом отворяются навстречу стада, и вот многоразличными голосами его наполнилось село от верху до самого, так сказать, до низу. Щелкание пастушеских кнутов, звонкие зазыванья баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец оглушающий свист лихача – помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара Валдая[2 - «Дар Валдая» – образ из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка» (1825): «И колокольчик, дар Валдая, гудет уныло под дугой». (В г. Валдае был колокольный завод.)] и с громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, делают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха, случайно выползшая из избы на божий свет, невольно схватывает себя обеими руками за голову и приседает, как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется старуха о дверную притолоку и стоит – не шелохнется; и довольно долго нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись наконец, всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и, медленно перекрестившись, шепотом вымолвит:
– Знать, уж господь светопреставление наслал на нас!
Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой старухи. Высокая и осанистая, стоит она у настежь распахнутых ворот коренастой избы с зелеными ставнями, с высокими скворечнями, с крыльцом из точеных балясин, и своим синим набивным сарафаном, своим ситцевым головным платком, больше всех этих принадлежностей украшающих ее избу, говорит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом, миру на удивленье, себе и детям на доброе здоровье.
– Экое житье какое у Федотихи чудесное! По будням уж стала ситцевые платки носить, – тихомолком толкуют соседские бабенки.
– Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить?.. Сказывают: старик-то ее четвериком деньги-то меряет.
– Кы-ы-ыть! Кыть! Кыть! – зазывает голосистая старуха своих овец, и, послушные ее голосу, животные галопцем несутся в ворота хозяйкина дома.
– Раз, два, три, – пересчитывает их старуха. – Ох, чтоб вас совсем! Вишь, какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам! Ужинать идите! – зыкнула она на своих семерых снох, которые толковали у колодца с соседскими бабами.
– Погоди-кась маленечко, Федотьевна, ворота-то запирать. Слухай-ка, я те скажу что-то, голубка! – издалека кричала Федотихе маленькая бабочка в сером изорванном зипуне.
– Что надоть? – нехотя спросила старуха, готовясь затворять тяжелые ворота.
– Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, ворота-то запирать, а ты и не слышишь, желанная. Знамо, божья старушка не всякое слово расслышит. Пусти-кась ты меня на двор к себе. Ярочка моя к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла, – сразу узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.
И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.
– Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла? – гневно закричала на нее сварливая старуха. – Одни только наши овцы пришли, – чужих ни одной нет. Сама видела, как пускала.
– Где тебе увидать-то, божьей старушке? – возражала бабенка. – Ведь они резвые, овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.
– Не слепей тебя! – рычала старуха. – Проваливай, проваливай от двора-то, покель цела.
– Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? – спрашивала серая бабенка, разгораясь в свою очередь.
– Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать?.. Поклонись приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!
– Да ишь должно нужно, коли на двор не пускаешь.
– А не пущу – и только. Вот те и вся недолга!
Дальше да больше, слово да другое – и закипела брань. А там за каменья, – насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в три шеи сыновьями Федотихи.
– Из ума выжила, старая кочерга! – покрикивал на свою старуху Федот. – Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала. Старость твою стыдить не хочу, а плетюганом взбодрить бы надо тебя…
– Ра-а-збойники! – шумела серая бабочка с другого конца села. – Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.
– Что это, в самом деле, Федотовы ребята расходились? – толковали старики, сидя на завалинах. – Словно это они, деньги имеючи, суда на себя знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно, что следствует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.
Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы, пала на село тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским улицам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая молчаливая жизнь ночи; какими-то живыми, приковывающими к себе глаза молниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то шепот, как бы мощное дыхание какое; в дальнем поле чуть слышно курлыкали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую полночь на сельскую природу, – не приметили ль вы, как в это время обнимает человека что-то такое, от чего сладкий трепет вливается в сердце и дыбом поднимается волос?..
II
Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный ярко вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются по всей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других мелких пташек: расселись они по соседним плетням и деревьям и так-то громко чирикают, словно бы ругают едкий дым, согнавший их с привычной насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, «расклеимшись маленечко» со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, ежеминутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого бы можно было сдернуть по крайности на полуштоф.
– Погляжу, погляжу я на тебя, Василий, мало, братец ты мой, политики в тебе! – говорит писарь своему сторожу, который завтракает огромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупною солью. – Натура у тебя самая что ни есть необузданная!
– Што так? – спрашивает Василий.
– Да так! Образованных обычаев ничуть ты не знаешь. Не успел ты, музлан, со сна бельмы протереть, а краюху уписал как следствует. Инда мне тошно смотреть на тебя.
– Эфто, Микита Иваныч, от того вам тошно, что вы вчера оченно много вина эфтого красного пили. Кабы стали, то ись, по одной сивухе ходить, никакого бы, истинно, сумнительства не было.
– Пустяки ты это рассказываешь. Я таперича, кроме как красного, в рот ничего не возьму, потому ты рacсуди: что благороднее – красное или простое?
– Точно что, Микита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато сивуха – занятнее.
– По морде бы тебя хватить – еще бы занятнее было; да вот вставать лень.
– Ах, и чудаки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешники! Только хоть бы што, а Федот Иванов беспременно к вам в правление валит на Козлиху жалиться. Старуху его вчера вечером страсть как Козлиха-то избранила.
– А вот мы их рассудим, – сказал писарь – Здравствуй, дядя Федот, – отнесся он к богачу. – Подсаживайся-ка вот к самовару: погреемся.
– Это нам к руке, – согласился Федот. – Только будь милостив, Микита Иваныч, пошли-кась ты Василья-то за пол-осьмухой, потому как нам дело до тебя есть, так угостить, поди, тоже потребуется.
– Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня вчера барышники из города, вволю красным употчевали; так оно теперь и тово… выпить-то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.
– Вот она, сладость-то! – шутил сторож, вынимая полуштоф и предчувствуя здоровенную выпивку.
– А знаешь ли ты, грамотный человек, – спрашивал у писаря Федот, наливая ему водки, – кто самому этому вину главная причина и отец?
– Ничего мы эфтова не знаем, – отвечал писарь, – кроме как ежели вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на животе сделается.
– А я тебе про эту причину расскажу. Шел черт по горе…
– Погоди с разговорами-то: я вот еще приспособлю, – перебил его писарь. – Заодно разоряться-то.
– На доброе здоровье… А под горой мужик землю пашет.
– Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал, – вмешался сторож. – Оба они, примером, под горою бымши…
Александр Иванович Левитов
«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.
Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…»
Александр Иванович Левитов
Расправа[1 - Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1, М., 1874, с. 33—52. Впервые опубликовано в журнале «Зритель», 1862, No 44, под заглавием «Мирской суд».]
I
Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.
Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо. На живую руку сбитые ворота с громким скрипом отворяются навстречу стада, и вот многоразличными голосами его наполнилось село от верху до самого, так сказать, до низу. Щелкание пастушеских кнутов, звонкие зазыванья баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец оглушающий свист лихача – помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара Валдая[2 - «Дар Валдая» – образ из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка» (1825): «И колокольчик, дар Валдая, гудет уныло под дугой». (В г. Валдае был колокольный завод.)] и с громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, делают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха, случайно выползшая из избы на божий свет, невольно схватывает себя обеими руками за голову и приседает, как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется старуха о дверную притолоку и стоит – не шелохнется; и довольно долго нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись наконец, всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и, медленно перекрестившись, шепотом вымолвит:
– Знать, уж господь светопреставление наслал на нас!
Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой старухи. Высокая и осанистая, стоит она у настежь распахнутых ворот коренастой избы с зелеными ставнями, с высокими скворечнями, с крыльцом из точеных балясин, и своим синим набивным сарафаном, своим ситцевым головным платком, больше всех этих принадлежностей украшающих ее избу, говорит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом, миру на удивленье, себе и детям на доброе здоровье.
– Экое житье какое у Федотихи чудесное! По будням уж стала ситцевые платки носить, – тихомолком толкуют соседские бабенки.
– Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить?.. Сказывают: старик-то ее четвериком деньги-то меряет.
– Кы-ы-ыть! Кыть! Кыть! – зазывает голосистая старуха своих овец, и, послушные ее голосу, животные галопцем несутся в ворота хозяйкина дома.
– Раз, два, три, – пересчитывает их старуха. – Ох, чтоб вас совсем! Вишь, какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам! Ужинать идите! – зыкнула она на своих семерых снох, которые толковали у колодца с соседскими бабами.
– Погоди-кась маленечко, Федотьевна, ворота-то запирать. Слухай-ка, я те скажу что-то, голубка! – издалека кричала Федотихе маленькая бабочка в сером изорванном зипуне.
– Что надоть? – нехотя спросила старуха, готовясь затворять тяжелые ворота.
– Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, ворота-то запирать, а ты и не слышишь, желанная. Знамо, божья старушка не всякое слово расслышит. Пусти-кась ты меня на двор к себе. Ярочка моя к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла, – сразу узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.
И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.
– Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла? – гневно закричала на нее сварливая старуха. – Одни только наши овцы пришли, – чужих ни одной нет. Сама видела, как пускала.
– Где тебе увидать-то, божьей старушке? – возражала бабенка. – Ведь они резвые, овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.
– Не слепей тебя! – рычала старуха. – Проваливай, проваливай от двора-то, покель цела.
– Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? – спрашивала серая бабенка, разгораясь в свою очередь.
– Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать?.. Поклонись приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!
– Да ишь должно нужно, коли на двор не пускаешь.
– А не пущу – и только. Вот те и вся недолга!
Дальше да больше, слово да другое – и закипела брань. А там за каменья, – насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в три шеи сыновьями Федотихи.
– Из ума выжила, старая кочерга! – покрикивал на свою старуху Федот. – Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала. Старость твою стыдить не хочу, а плетюганом взбодрить бы надо тебя…
– Ра-а-збойники! – шумела серая бабочка с другого конца села. – Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.
– Что это, в самом деле, Федотовы ребята расходились? – толковали старики, сидя на завалинах. – Словно это они, деньги имеючи, суда на себя знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно, что следствует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.
Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы, пала на село тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским улицам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая молчаливая жизнь ночи; какими-то живыми, приковывающими к себе глаза молниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то шепот, как бы мощное дыхание какое; в дальнем поле чуть слышно курлыкали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую полночь на сельскую природу, – не приметили ль вы, как в это время обнимает человека что-то такое, от чего сладкий трепет вливается в сердце и дыбом поднимается волос?..
II
Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный ярко вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются по всей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других мелких пташек: расселись они по соседним плетням и деревьям и так-то громко чирикают, словно бы ругают едкий дым, согнавший их с привычной насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, «расклеимшись маленечко» со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, ежеминутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого бы можно было сдернуть по крайности на полуштоф.
– Погляжу, погляжу я на тебя, Василий, мало, братец ты мой, политики в тебе! – говорит писарь своему сторожу, который завтракает огромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупною солью. – Натура у тебя самая что ни есть необузданная!
– Што так? – спрашивает Василий.
– Да так! Образованных обычаев ничуть ты не знаешь. Не успел ты, музлан, со сна бельмы протереть, а краюху уписал как следствует. Инда мне тошно смотреть на тебя.
– Эфто, Микита Иваныч, от того вам тошно, что вы вчера оченно много вина эфтого красного пили. Кабы стали, то ись, по одной сивухе ходить, никакого бы, истинно, сумнительства не было.
– Пустяки ты это рассказываешь. Я таперича, кроме как красного, в рот ничего не возьму, потому ты рacсуди: что благороднее – красное или простое?
– Точно что, Микита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато сивуха – занятнее.
– По морде бы тебя хватить – еще бы занятнее было; да вот вставать лень.
– Ах, и чудаки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешники! Только хоть бы што, а Федот Иванов беспременно к вам в правление валит на Козлиху жалиться. Старуху его вчера вечером страсть как Козлиха-то избранила.
– А вот мы их рассудим, – сказал писарь – Здравствуй, дядя Федот, – отнесся он к богачу. – Подсаживайся-ка вот к самовару: погреемся.
– Это нам к руке, – согласился Федот. – Только будь милостив, Микита Иваныч, пошли-кась ты Василья-то за пол-осьмухой, потому как нам дело до тебя есть, так угостить, поди, тоже потребуется.
– Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня вчера барышники из города, вволю красным употчевали; так оно теперь и тово… выпить-то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.
– Вот она, сладость-то! – шутил сторож, вынимая полуштоф и предчувствуя здоровенную выпивку.
– А знаешь ли ты, грамотный человек, – спрашивал у писаря Федот, наливая ему водки, – кто самому этому вину главная причина и отец?
– Ничего мы эфтова не знаем, – отвечал писарь, – кроме как ежели вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на животе сделается.
– А я тебе про эту причину расскажу. Шел черт по горе…
– Погоди с разговорами-то: я вот еще приспособлю, – перебил его писарь. – Заодно разоряться-то.
– На доброе здоровье… А под горой мужик землю пашет.
– Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал, – вмешался сторож. – Оба они, примером, под горою бымши…