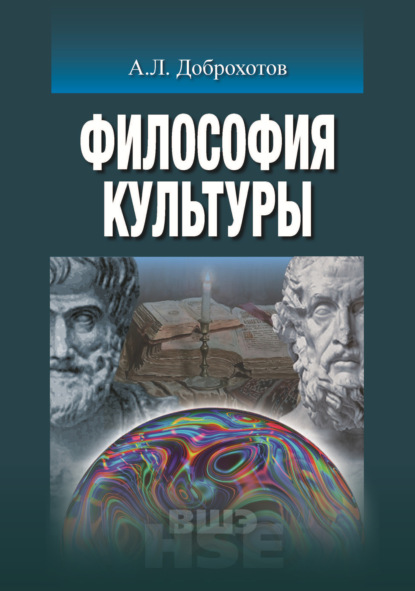По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия культуры
Жанр
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце концов ученые начинают работать без философов: философы не поспевают за ними. Строго говоря, это были одни и те же люди; разделение, только что допущенное, – риторическая фигура. Но оно уместно, поскольку до статусно-социального разделения в XIX в. оставались считаные десятилетия. Важно, что ученые Просвещения уже являются самостоятельной силой. В XVIII в. возникает широкая специализация; ученый теперь не обязан знать все на свете; у него есть своя узкая сфера. Сами ученые не видят здесь проблемы, потому что реально заработал механизм Академии наук, когда корпорация ученых под защитой государства может позволить себе узкую специализацию, и в случае необходимости коллеги всегда помогут создать контекст, в который можно включить свою науку. Но некая проблема все же появилась. Если функцию философа берет на себя естествоиспытатель, то он должен заняться не совсем органичной для себя работой по созданию идейной генерализации картины мира. Однако коллектив специалистов – это еще не субъект философии. Он может создать скорее не теорию, а мировозренческий дизайн (sit venia verbo). Что это, если не идеология?
В XVIII в. появляется невиданная раньше в истории Европы сила – идеология. Идеология – это утилитарное отношение к идее как к средству. Предполагается, что есть нечто реально-жизненное, некий процесс, интерес (не обязательно корыстный), выраженный на языке идей, которые становятся его представителем. Идеи в этом случае служебны и вторичны. Всегда можно найти исторические прецеденты, и ростки идеологии мы можем усмотреть в теориях и практике софистов, в дискуссиях XVII в. «о древних и новых», но настоящая культурная база идеологии появляется только с Просвещением. Натурализм эпохи приучил видеть Природу единственным Универсумом, и это позволило ученым строить картину мира без философов и богословов. Это и есть рождение позитивистской установки, которое французские материалисты окончательно оформили как идеологию. Отсюда – еще один шаг до идеологизма XIX в.; до утверждения о том, что никакой реальной основы у идей, собственно, нет: идеи всегда сводимы к принципу эффективности, к принципу эффективной защиты внеидейного. Весь XIX в. («эра подозрения», по словам Рикёра) будет посвящен разоблачению всего идейного и идеального; сведению его к реальному. Действительно, в свете новой парадигмы логично предположить, что за любым идеологическим конструктом стоит интерес; и задача философа в том, чтобы демонтировать этот конструкт и показать, какие и чьи интересы он выражает. Именно XVIII в. рождает эту установку. Но поскольку это век не только просвещения и искусства, но еще и век политики, идеология получает новую почву. Политика перестает быть делом узких групп, облеченных реальной властью; она становится общеевропейской игрой. Те, кому не дают рычаги политики, образуют свои кружки и комплоты, и, как оказалось, это очень эффективное средство, чтобы встроиться в политику. Возникает теневой политический театр. Сначала это были по большей части игры, но по мере того, как реальные политики ослабевали из-за предреволюционного кризиса, теневые игроки неожиданно оказались мощными фигурами на доске. Так политика становится великой культурной силой века. Кроме того, в политику было интересно играть, потому что Просвещение нарисовало маршрут, по которому должно идти человечество, впервые по-настоящему ввело понятие прогресса: стало ясно, кто есть враги прогресса, и понятно, за что бороться. Особенно охотно в политику включились люди, которые не имели власти, но имели образование, т. е. разночинцы, или шире – «третье сословие», которое, как говорил аббат Сийес, должно быть всем, хотя на данный момент оно не является ничем; оно работает, но ничего не получает. «Ничто» и «все» – это мощный вектор динамического напряжения, который заставлял и действовать, и создавать идеологические мифы. Оппозиция «механизм – организм» уже недостаточна для описания этой культурной модели, поскольку органическое подчиняется силе, делающей из него свой материал. Кажется, именно эту силу Гёте попытался обозначить как «демоническое», и если это так, то он угадал характер будущих культурных коллизий.
Дидро. «Парадокс об актере»
У «Парадокса об актере» сложилась довольно парадоксальная история восприятия. Этот маленький шедевр Дидро отличается вроде бы не концептуальной сложностью, а литературным блеском и неожиданностью поворота темы, но многочисленные (зачастую очень темпераментные) отклики озадачивают именно разнообразием истолкования главной идеи диалога. Казалось бы, театральные деятели, адресаты «Парадокса», соглашаясь или не соглашаясь с Дидро, могли прийти к согласию хотя бы в понимании сути «послания» автора. Но этого не произошло. Характерен такой пассаж К.С. Станиславского: «Основные мысли Дидро, очень неправильно понятые и истолкованные, сводятся к следующему: актер не переживает те же самые чувства, что он переживает в жизни. По мнению Дидро, нельзя жить подлинным чувством совершенно тождественно тому, какое мы испытываем в жизни, но можно жить настоящим, вновь творчески зародившимся чувством, то есть иными словами он говорит то же, что и мы, когда призываем в нашем творчестве на помощь аффективные воспоминания. <…> У Риккобони есть письмо Дидро <…>, где Дидро отстаивает наши принципы, а та отстаивает мейерхольдовские принципы»[17 - Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 2. Театр эпохи Просвещения (XVIII век). М., 1955. С. 336.]. В данном случае не так важно, насколько близки «аффективные воспоминания» методу Дидро. Важнее то, что Станиславский берет Дидро в союзники, противопоставляя Мейерхольду. Но и Мейерхольд видел близость идей Дидро приемам своей «биомеханики», а Эйзенштейн вычитывал у него предвосхищение принципов монтажа[18 - См.: Алтагмина БД. Парадокс о Дидро // Д. Дидро: pro et contra. СПб., 2013. С. 22–26.]. Это говорит, кроме прочего, о том, что основная мысль «Парадокса» допускает разные толкования. Диалог этот, как легко заметить, весьма патетичен, но смысл пафоса выводит нас, как представляется, за пределы театральной темы. Ниже предпринимается попытка прочитать «Парадокс об актере» в свете конфликта рассудка и воображения как двух ключевых концептов Просвещения и соответственно в контексте первого кризиса рациональности в европейской культуре Нового времени, многосторонне проявившемся во второй половине XVIII в.
Основной тезис диалога, который на все лады варьируется автором, заключается в требовании дистанцирования от роли и эмоциональной невозмутимости, которые необходимы «великому актеру». «Я хочу, чтобы он был очень рассудочным [beaucoup de jugement]; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем [un spectateur froid et tranquille]. Следовательно, я требую от него проницательности, но никак не чувствительности [la pеnеtration et nulle sensibilitе], искусства всему подражать [l’art de tout imiter],vum, что то же, способности играть любые роли и характеры». Так говорит первый протагонист, выразитель авторских мыслей. Второй изумленно восклицает: «Никакой чувствительности! [Nulle sensibilitе!]»[19 - Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 540.]. Конечно, это вызов веку сентиментализма, несущий не только критику, но и некую позитивную контрпрограмму. В чем преимущество «рассудочной» игры? В том, что «актер, который играет, руководствуясь рассудком (rеflexion), изучением человеческой природы [la nature humain], неустанным подражанием идеальному образцу [mod?le idеal], воображением (imagination), памятью [mеmoire], – будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: все было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове [mesurе, combinе, appris, ordonnе dans sa t?te]; нет в его декламации ни однотонности, ни диссонансов. Пыл его имеет свои нарастания, взлеты, снижения, начало, середину и высшую точку. Те же интонации, те же позы, те же движения; если что-либо и меняется от представления к представлению, то обычно в пользу последнего. Такой актер не переменчив: это зеркало, всегда отражающее предметы [une glace toujours disposеe ? montrer les objets], и отражающее с одинаковой точностью, силой и правдивостью [vеritе]. Подобно поэту, он бесконечно черпает в неиссякаемых глубинах природы [lefonds inеpuisable de la nature], в противном случае он бы скоро увидел пределы собственных богатств»[20 - Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 541.]. Хочется воскликнуть: «Да актер ли это?!» Ведь перед нами платоновский мудрец, у которого тоже есть и рефлексия, и идеальная модель, и число для упорядочивания мира и, наконец, для которого мир тоже есть театральная игра. Обратим внимание на ключевые слова, объясняющие источник «величия» такого актера: он обращается к «неиссякаемым глубинам природы». Прежде всего важно, что кроме двух перспектив – актера и зрителя – появляется объективная (абсолютная?) точка отсчета: природа. Важно и то, что природа имеет lefonds inеpuisable: т. е. она позволяет актеру выходить из любого ограниченного контекста в пространство творческой свободы, причем выходить легитимно, не в экстатическом произволе, а в союзе с объективностью, поскольку от себя актер привносит только зеркальность, способность нейтрально отражать мир.
В то же время Дидро отнюдь не жертвует эмоциональными способностями актера, предлагая дистинкцию чувства и чувствительности. «Быть чувствительным [sensible] – это одно, а чувствовать [sentir] – другое. Первое принадлежит душе [ате], второе – рассудку [jugement]. Можно чувствовать сильно – и не уметь передать это. Можно хорошо передать чувство, когда бываешь один, или в обществе, или в семейном кругу, когда читаешь или играешь для нескольких слушателей, – и не создать ничего значительного на сцене. Можно на сцене, с помощью так называемой чувствительности, души, теплоты, произнести хорошо одну-две тирады и провалить остальное; но охватить весь объем большой роли, расположить правильно свет и тени, сильное и слабое, играть одинаково удачно в местах спокойных и бурных, быть разнообразным в деталях, гармоничным и единым в целом, выработать строгую систему декламации, способную сгладить даже срывы поэта, возможно лишь при холодном разуме [t?te fwide], глубине суждения [profond jugement], тонком вкусе [go?t exquis], упорной работе [еtude pеnible], долгом опыте [longue expеrience] и необычайно цепкой памяти [tеnacitе de mеmoire][21 - Там же. С. 582.].
В этой развернутой программе рационализации вдохновения обращает на себя внимание хорошо темперированное соотношение между чувством и средствами его передачи. Более того, средства оказываются значительнее, чем транслируемая эмоциональная материя, и скорее могут претендовать на статус цели, чем она. Ведь эти средства, собственно, и есть разум, который может бесконечно погружаться в любую иррациональную стихию и возвращаться с эстетической «добычей». Но и мир «души» не приносится в жертву «рассудку». Если во времена Корнеля «sensibilite» держали на коротком поводке, то Дидро не сомневается в том, что рассудок должен погрузиться в душевный апейрон; причем ему, в сущности, все равно, в какой именно, поскольку предусмотренной классицизмом иерархии предметов, достойных изображения, для эпохи Дидро почти уже нет. В конце концов, речь идет об игре актера, а не о миссии философа, и это немало говорит о смене приоритетов. Другое дело, что, подчиняя себя эмоциональной стихии, актер самой своей способностью кристаллизовать переживание и повторять его сколь угодно часто переворачивает заданное отношение и заставляет чувство служить себе. Нужно ли удивляться, что об этой инверсии пишет Дидро – крестный отец «диалектики слуги и господина»?
С чем же боролся философ, формулируя свой «парадокс об актере»? Похоже, что мы имеем дело с одной из самых значительных попыток реванша рациональности после убедительной победы чувствительности и воображения, одержанной в эпоху, условно говоря, раннего Руссо.
Весьма показательно в этом отношении творчество любимца Дидро – Шардена. Поворот, осуществленный Шарденом, это нечто большее, чем неслучайная «эскизность», проницательно замеченная Дидро, но свойственная в пору зрелости XVIII в. не одному Шардену. Здесь речь идет уже о метаморфозе художественного пространства, которое теперь несовместимо с идеальным моделированием: трудно представить Шардена, расставляющего восковые фигурки в «перспективном ящике». У Шардена перед нами – рекурсивный ход культуры, которая нуждается в том, чтобы скрепами феноменального мира стали чувственные перцепции, субъективное время и та сила, которая может их объединить, – эмпирическая индивидуальность. Иногда отмечают (М.И. Свидерская, В.С. Библер), что замечания Дидро о Шардене зачастую противоречат друг другу. Так, В.С. Библер обращает внимание на парадоксальность, «органическую несогласованность» эстетики вкуса Дидро. «Вкус Дидро, вкус безусловно „просвещенный“, удовлетворяется лишь тогда, когда художественное произведение воспринимается одновременно – как природа, как нечто совершенно естественное и – вместе с тем – как нечто неестественное, искусственное, классическое, идеальное, стоящее выше природного образца, точнее, вне этого образца»[22 - Библер В.С. Век Просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант // Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. С. 159–160.]. То, что мы уже знаем о «Парадоксе», позволяет увидеть в этой «несогласованности» как раз последовательное проведение принципа субстанциального союза художника и природы. Но только Дидро в художнике видит начало неаффективное, независимое от гипноза эмоций, а в природе – начало, стоящее за явлениями, трансфеноменальное, безусловно объективное. Однако ведь в таком случае речь идет о Разуме и Бытии, о концептах, вытесненных, казалось бы, новыми универсалиями: Человеком и Природой. Дидро осуществляет реверсивный культурный ход, предчувствуя, как можно предположить, демонизацию этих универсалий в культуре грядущего века. Несомненно, он тем самым идет против наступающей эпохи «самовыражения», против течения, которое и сегодня еще может считаться доминантой. Но в то же время его идеал – отнюдь не то, что С.С. Аверинцев называет идеалом рассудочно-риторического дискурса. Дидро находится в области отхода от риторической традиции, предшествуя таким гениям переломного времени, как Гёте и Пушкин, и закладывая основы нового канона.
Поскольку первый набросок идей, высказанных в «Парадоксе», появился в печати в 1770 г. (задолго до публикации 1830 г.), можно с уверенностью сказать о влиянии Дидро – прямом или косвенном – на эстетику «нового канона», на теорию игры Шиллера, на гётевскую концепцию стиля, на эстетику Пушкина. Идеи Гёте особенно показательны в этом отношении. В поздней работе «Искусство и древность» Гёте дает емкое пояснение: надо различать, подыскивает ли поэт особенное для всеобщего или видит в особенном всеобщее. В первом случае возникает аллегория, где особенное служит лишь примером; второй случай характеризует собственную природу поэзии: она передает особенное, не думая о всеобщем, не указывая на него. Это не только формулировка гётевского символизма, но и в какой-то мере – стратегия, предлагаемая Дидро актеру: встраивать всеобщее в особенное уже самой рефлексивной дистанцией.
Говоря о новом рационализме «Парадокса», стоит обратить внимание и на характер актерской рефлексии, которая сопровождается у Дидро такими устойчивыми характеристиками, как «холод» и «отстраненность». Почему в эпоху теплой человечности – «холод»? Видимо, здесь у Дидро – целый букет мотивов. Но прежде всего чувствуется неприятие той «непосредственности», которая вместе с индивидуализмом преодолела со временем и всю европейскую аксиологию личностного разума. (Мы-то сейчас уже знаем, какие инфернальные формы приобрела эта чувствительность и непосредственность. Но почему бы не предчувствовать этого и Дидро – современнику де Сада и почти современнику режиссеров Французской революции?) Дистанция и холодная рефлексивность выступают у Дидро в этом отношении антидотом и приобретают отчетливую социально-этическую окраску. Поучительный опыт рассмотрения «Парадокса» в контексте властных, социальных и этических отношений эпохи предпринял М. Ямпольский, отметивший у Дидро специфический механизм блокирования просвещенческого мимесиса: «Дидро строит модель мимесиса, который позволяет актеру сохранить позицию субъекта, сознавать, что имитация – не более чем театральная игра. Это разделение гения на чисто пластическую массу – актера и рационального зрителя – <…> позволяет сохранять репрезентативную структуру зрелища, то есть структуру субъективности. Но субъективность эта обретается ценой эмоциональности. Сентиментальность – главная угроза структуре субъективности»[23 - Ямпольский М.Я. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004. С. 310.]. Возможно, «холод» не единственная оппозиция «сентиментальности», но для Дидро важно вспомнить о классической характеристике разума, которая предполагала его отстраненность и невовлеченность в природный континуум. «Душа великого актера состоит из того тонкого вещества [l’еlеment subtil], которым наш философ заполнял пространство, оно ни холодно, ни горячо, ни тяжело, ни легко, оно не стремится к определенной форме [n’affecte aucune forme dеterminеe] и, воспринимая любую из них, не сохраняет ни одной»[24 - Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 567.]. Душа, таким образом, может и не быть холодной, но обязательно должна избегать детерминации определенной формой. Принято считать, что «наш философ» – это Эпикур. Но заданным характеристикам, по сути, отвечает «архе» всех раннегреческих философов: и «от всего отрешенное» единое Гераклита, и анаксагоровский Ум… Именно отрешенность и дает право как на понимание, так и на управление. И все же показательно, что именно «холод» становится лейтмотивом «Парадокса». В таком виде и транслируется этот мотив в той ветке европейской культуры, которая оказалась если не оппозиционной, то все же – рецессивной частью цивилизации позитивизма и психологизма. Мы узнаем этот мотив в формуле Стендаля: «Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге [un roman est un miroir qui se prom?ne sur une grande route]»; в дефиниции вдохновения у Наполеона (вдохновение – это быстро сделанный расчет) и Пушкина (расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий); в «тур д’ивуар» Флобера, в эстетике «Парнаса»… и далее в поэтике Чехова, в блоковских строках, напоминающих о неотъемлемом от этого мотива призвуке трансцендентности:
И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи.
«Парадокс об актере» не был, конечно, единственным в XVIII в. случаем высвеченной коллизии рациональности и имагинативных форм культуры, но мы имеем право говорить об оригинальной версии «спасения» рационализма, выдвинутой Дидро. Дело не только в том, что разум в работе Дидро сближается с неким универсальным чувством, наделенным правом контроля и руководства над аффектами, и трактуется как источник «идеального образа»: в этом Дидро не одинок. Важнее то, что в сентиментальной аффективности была предугадана грозная дионисийская сила, угрожающая аполлиническому началу в Просвещении. Поэтому борьба Дидро с «чувствительностью» выходит за рамки эстетической проблематики и, по сути, является альтернативной антропологией как по отношению к гуманизму Просвещения, так и по отношению к психологизму XIX в.
Постскриптум
Не странно ли, что, почувствовав родственную эстетику в Шардене, Дидро не заметил ее в творчестве Ватто? Да, он недолюбливал Ватто: «… я отдал бы десять Ватто за одного Тенирса»[25 - Дидро Д. Эстетика и литературная критика. С. 486.]. И конечно, Дидро вполне мог воспринимать магический лиризм Ватто как идейно ненавистную ему сентиментальность. Nulle sensibilitе! Да и некоторая отстраненность Ватто от мира своих картин – это не t?te f'wide. В «Опыте о живописи» он категоричен. Считая невыносимым в изобразительном искусстве выработанное цивилизацией галантное жеманство, с которым проявляется учтивость, Дидро не принимает в качестве контраргумента даже ссылку на Ватто. (Характерно, впрочем, что он же и делает эту ссылку от лица воображаемого оппонента.) «Отнимите у Ватто его ландшафты, его краски, изящество его фигур и их одежд; смотрите только на изображаемую им сцену [ne voyez que la sc?ne] и судите сами»[26 - Дени Дидро об искусстве / пер. А.С. Гущина. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 96.]. То есть та специфическая театральность, о которой пишут исследователи творчества Ватто, не существует для Дидро. Но немного ниже он пишет – безотносительно к Ватто – о способности живописи сообщить статичному пространству кинетическую силу: «Всякое действие заключает в себе несколько моментов; но я сказал уже и повторяю еще, что художнику принадлежит только один, длительность которого равна взгляду [l’artiste n’en a qu’un dont la durеe est celle d’un coup-d’oeil]. Однако, подобно тому, как на лице, на котором царила скорбь и внезапно проявляется радость, я найду переживания нынешнего момента, смешанное со следами переживания уже уходящего; так и в моменте, который изберет художник, могут оставаться то ли в позах, то ли в характерах, то ли в действиях пребывающие следы момента предшествующего [des traces subsistantes du moment qui a prеcеdе]. Система фигур, сколько-нибудь сложная, не может вся сразу измениться; это известно каждому, кто знает природу и кто обладает чувством правдивости. Но он чувствует также, что при этих разделенных фигурах и неопределенных персонажах, только отчасти содействующих общему эффекту, он проиграет в смысле интереса то, что выиграет со стороны разнообразия. Что увлекает мое воображение? То же, что привлекает и массу [C’est le concours de la multitude][27 - Пожалуй, в данном случае лучше передает мысль Дидро перевод И. Волевич: «именно общее, согласованное действие всех персонажей картины». См.: Дидро Д. Салоны: в 2 т. М., 1989. С. 229.]. Я не могу противостоять такому количеству призывающего меня народа. Мои глаза, мои руки и моя душа невольно устремляются туда, куда прикованы их глаза, их руки и их души»[28 - Дени Дидро об искусстве. Т. 1. С. 97–98.].
Но разве не в этом волшебство Ватто, недоступное, кажется, в такой мере больше никому в XVIII в.? Возможно, наиболее показателен в этом отношении шедевр Ватто «Вывеска Жерсена» («симфония из тысяч волшебных нюансов», по выражению А.К. Якимовича[29 - Якимович А.К. Об истоках и природе искусства Ватто // Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. С. 56.]), где динамика не дана напрямую, движением фигур и групп, но воплощена как раз в том, что Дидро назвал traces subsistantes, и идеально уравновешена с эмоциональными характеристиками персонажей[30 - См. анализ картины в следующих работах: Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007. С. 84–90; Якимович А.К. Цит. соч. С. 76–78; Герман М.Ю. Антуан Ватто. Л., 1984. С. 195–199. О культурном контексте стиля Ватто см. также: Белова Ю.Н. Рациональные конструкции Антуана Ватто // XVIII век: Литература как философия, философия как литература. М., 2010; Она же. Театральные метаморфозы Антуана Ватто // XVIII век: театр и кулисы. М., 2006.]. Вот как пишет об этом искусствовед: «Спокойная волнистая линия очерчивает две основные группы: упаковщики и входящая в магазин пара слева и справа – группа у прилавка. Но и внутри каждой группы есть свой, созвучный первому, волнистый, мерный ритм, а расположение фигур в каждой из них словно бы повторяет латинскую букву «s». Перспективные линии неторопливо уводят взгляд зрителя в светлую глубину дома <…> Впервые в живописи Ватто мир искусства отделился от мира реального, и реальные люди из плоти и крови впервые показаны им в прямом взаимодействии с выдуманным, живописным миром. Здесь, в этой лавке, происходит примирение фантазии и реальности, прежние герои словно сходят со сцены и, стерев грим, присоединяются к зрителям – таким же, как они»[31 - Герман М.Ю. Цит. соч. С. 197–198.]. «Присоединение к зрителям» – это не просто риторическая фигура: этот весьма важный момент, замеченный исследователем, перекликается с пафосом Дидро, который пытался спасти актера из клаустрофобического плена аффектов и сделать его субъектом творческой свободы. «Длительность» Шардена и «кинетика» Ватто сходным образом выводят живопись из замкнутого пространства мимесиса, и это должно было бы побудить автора «Парадокса» взять Ватто себе в союзники.
Глава 3
Культурфилософские идеи германии XVIII – первой трети XIX в.
Немецкое Просвещение некоторое время находилось в фарватере английского и французского, но его более поздний расцвет стал также фактором силы: и задачи, и их решение были зрелым плодом духовного развития новой Европы. К тому же Германия этого времени была раздробленным и сложно устроенным политическим телом с двумя основными конфессиями, немногими центрами национальной «гравитации», слабой экономикой, весьма разными взглядами и настроениями бесчисленных властителей. Но культурный капитал и историческое самосознание были более чем значительны. Это обусловило интенсивнейшую духовную жизнь тогдашней Германии. Как и в России, Просвещение в Германии едва ли не главным центром имело волю государя и собранных вокруг него «экспертов». Такой влиятельной и хорошо интегрированной интеллигенции, как во Франции, в немецких землях не существовало. Однако преодоление этих трудностей превратило со временем Германию в авангард теоретической мысли, направленной на решение самых острых духовных коллизий позднего Просвещения. Неудивительно, что и окончательное формирование теории культуры как ветви гуманитарной мысли произошло в Германии во второй половине XVIII в. (Теорию культуры в данном случае правильнее называть не культурологией, что было бы анахронизмом, а культурфилософией[32 - Автор термина «культурфилософия» – немецкий романтик А. Мюллер.].)
С выходом в свет труда И.И. Винкельмана (1717–1768) «Мысли о подражании произведениям греческой живописи и скульптуры» (1755) начинается новый этап культурной рефлексии, который был не только выбором «немецкого пути» Просвещения, но и общеевропейским поворотом. У Винкельмана за хрестоматийной формулой «благородной простоты и спокойного величия» греческого искусства скрывается нетривиальная теоретическая основа. Мы можем усмотреть здесь латентную полемику с принятыми в XVIII в. оценками. Классическим каноном по-прежнему в это время считалось римское искусство в его не столь уж многочисленных и в основном эллинистических образцах, хотя об этом уже шли споры, и расцвет этнографии и археологии, позволивший шаг за шагом приблизиться к исторической плоти Греции и Рима, подталкивал к переоценке ценностей. Винкельман не просто предлагает переориентироваться на греческий канон, но и встраивает его в культурное целое. Греческое искусство становится пластической эмблемой ценностей своей цивилизации: демократии, гуманизма, разума, меры, одухотворенной телесности… Вернемся к формуле «благородной простоты и спокойного величия». Принцип простоты в винкельмановском контексте – это вызов поэтике барокко. Предикат благородства – протест против сентиментального мещанского демократизма с его культом добрых нравов «третьего сословия». Принцип величия – спор с приземленным натурализмом Просвещения. Предикат спокойствия – коррекция категории «возвышенного», которая зачастую в эстетике Просвещения (а позже штюрмерства) трактовалась как катастрофический революционный слом устоев. В дальнейшем критическая немецкая мысль двинется по всем этим четырем направлениям.
Сама Античность для Винкельмана становится каноном, задающим ритм и смысл истории. Вслед за Вазари и Вико (с идеями которого он был знаком) Винкельман пытается выстроить периодизацию культурных эпох, но его схема уже несколько сложнее, чем биоморфная модель предшественников (детство, зрелость, упадок). Винкельман выделяет следующие четыре эпохи:
1. Древнейшая (или архаическая): от начала до Фидия.
2. Высокая: Фидий и его время.
3. Изящная (или «элегантная»): Пракситель, Лисипп, Апеллес.
4. Подражательная: греко-римская.
Этот ритм он усматривает и в искусстве итальянского Возрождения: 1) до Рафаэля; 2) Рафаэль; 3) Корреджо; 4) братья Карраччи. В дальнейшем историческая культурология обнаружит, что применимость этой схемы выходит далеко за рамки истории искусства: скорее можно говорить об универсальной модели смены культурных периодов. Возможно, что Винкельман был первым, кто ввел понятие «стиль» в смысле характеристики художественной эпохи. Еще решительнее можно утверждать, что он впервые говорит о произведении искусства на новом языке: вместо прямолинейного описания предмета и оценочных эпитетов мы видим попытку реконструировать его «внутреннюю форму», осуществить своеобразный перевод с языка художественной техники на язык поэтики.
У Винкельмана мы уже встречаем такие средства интерпретации искусства, которые можно использовать в гораздо более широком плане – как метод описания культуры и ее типов. Еще дальше по этому пути пошел Г.Э. Лессинг (1729–1781). Размежевание «древних» и «новых», о котором шла речь выше, до некоторой степени может пригодиться при сравнении Винкельмана и Лессинга. Неоклассицизм первого противостоит новаторству второго. Лессинг пытается ограничить власть античного канона, для чего создает свою теорию различения пространственных и временных искусств. В «Лаокооне» (1766) он проводит границу между литературой и зрительными искусствами, показывая, что мир пластической красоты не в состоянии выразить подвижную реальность мира человеческой воли, действия, истории. Это может сделать «поэзия» (т. е. совокупность вербальных искусств), которая в состоянии передать временную последовательность, имеет возможность разбивать свое повествование на части и фрагменты и не прикована так жестко к «идеалу красоты». На примере знаменитой скульптурной группы Лессинг показывает, что верность этому идеалу заставила скульпторов ослабить изображение страдания. Литература же в состоянии выражать эстетику страдания и даже безобразия. Такое расширение эстетического спектра было весьма значимым для самооправдания культуры Нового времени. Лессинг утверждает мысль, которая сейчас нам не кажется такой революционной, каковой она была на самом деле: литература не создает картинки при помощи слов, она является не ослабленной версией изобразительного искусства, а другим художественным миром, который более значим для современности с ее динамикой.
Таким же историческим оправданием для театра была «Гамбургская драматургия» (1767–1769); с нее, в частности, начинается немецкий культ Шекспира, важный для самосознания эпохи. В этой работе Лессинг также прочертил границу между старой и новой эстетикой, говоря о неаристотелевском понимании «всеобщего характера»: современности важно изобразить не столько тип с его усредненными характеристиками, сколько воплощенную идею, которая не исключает неповторимой индивидуальности. Наконец, большую роль в воспитании сознания культурно-религиозной толерантности сыграла драма «Натан Мудрый» (1779): тема «диалога культур» звучит здесь – без экзотики и скрытого европоцентристского высокомерия – как предупреждение и напоминание Просвещению о его миссии.
И.Г. Гердер (1744–1803), подхватывая эстафету немецкой просветительской мысли, получает в наследство большой ресурс размышлений о культуре и связывает его в такую целостность, которая уже может претендовать на статус науки о культуре. В ранних работах (среди прочих в трактате «О происхождении языка», 1772) он разрабатывает проблемы эстетики и языкознания. Его учение о «духе народа», который выражается в искусстве и – наиболее чисто – в народной поэзии, стоит у истоков фольклористики. Работа о происхождении языка дает одну из первых моделей естественного становления языка в ходе истории. Гердер отрицает генетическую субординацию языка и мышления, полагая, что они развиваются во взаимообусловленном единстве. Он не только отвергает богоданность языка, но и, полемизируя с Кондильяком и Руссо, утверждает его собственно человеческую специфику, находимую в мысли, практике и общественности.
В «Идеях к философии истории человечества» (опубликованы в 1784–1791) он создает обширную картину эволюции природы от неорганической материи до высших форм человеческой культуры. Здесь Гердер реализовал свой проект универсальной философской истории человечества. Труд состоит из 20 книг (и плана заключительных пяти книг), в которых Гердер, суммируя достижения современных ему космологии, биологии, антропологии, географии, этнографии, истории, дает изображение поэтапного становления человечества. В центре его внимания – процесс мирового развития. Общий порядок природы Гердер понимает как ступенчатое поступательное развитие совершенствующихся организмов от неорганической материи через мир растений и животных к человеку и – в будущем – к сверхчувственной «мировой душе». Как свободная и разумная сущность человек представляет собой вершину сотворенной божественным духом природы. Критикуя телеологию, Гердер подчеркивает значение воздействия внешних факторов (совокупность которых он называет «климатом») и считает достаточным для понимания истории ответить на вопрос «почему», не задаваясь вопросом «для чего». В то же время он признает ведущей силой истории внутренние, «органические» силы, главная из которых – стремление к созиданию общества. Основной сплачивающей силой общества Гердер считает культуру, внутренней сущностью которой является язык. Проблеме происхождения и развития языка Гердер уделяет особое внимание.
Представляет интерес предложенная Гердером концепция «всеобщего мира», делающая упор не на политическом договоре «верхов», как в большинстве аналогичных трактатов XVIII в., а на нравственном воспитании общественности. В отличие от своей ранней критики цивилизации, близкой по духу Руссо, Гердер возвращается в «Идеях…» к историческому оптимизму Просвещения и видит в прогрессирующем развитии человечества нарастание гуманизма, который понимается им как расцвет принципа личности и обретение индивидом душевной гармонии и счастья.
Книга вызвала интенсивную полемику в кругах просветителей. Гёте ее приветствовал, Кант критиковал ее эвдемонизм и отсутствие философской методологии, но отчасти благодаря самой полемике просветительский дискурс о культуре приобрел именно гердеровский «формат». Благодаря «Идеям…», Гердера можно считать, наряду с Вико и Кантом, отцом культурологии как науки. В целом работа сыграла роль манифеста просвещенческого историзма.
Во второй половине 1780-х годов Гердер вовлекается в «спор о пантеизме» и публикует трактат «Бог» (1787), в котором выказывает себя радикальным сторонником спинозизма.
Поздний Гердер разрабатывает своеобразную культурную антропологию и политическую философию в «Письмах для поощрения гуманности» (1793–1797), где, в частности, выдвигает свою версию учения о «вечном мире», к которому должны привести не договоры властей, а гуманистическое воспитание народа, торговля и здоровый прагматизм. В работах «Метакритика чистого разума» (1799) и «Каллигона» (1800) Гердер вступает в ожесточенную, но довольно поверхностную полемику с Кантом. «Каллигона» содержит одну из первых формулировок позитивистской эстетики.
В рамках позднего этапа немецкого Просвещения учение Гердера оказалось в изоляции. Будучи близким по настроению к пантеистической натурфилософии Гёте, оно противоречило ей рационалистическим доктринерством и религиозным духом. Оно вступило в конфликт с кантовской версией природы человека и смысла истории: принципы счастья индивидуума (Гердер) и благоденствия общества в государстве (Кант) оказались несовместимыми. Ранних романтиков отталкивал наивный оптимизм Гердера. Несмотря на это, мировоззрение Гердера стало арсеналом тем, идей и творческих импульсов для самых разных направлений немецкой мысли: для романтической эстетики и натурфилософии, гумбольдтианского языкознания, диалектической историософии Фихте и Гегеля, антропологии Фейербаха, герменевтики Дильтея, философии жизни, либеральной протестантской теологии.
Об одном из течений, у истоков которых стоял Гердер, надо сказать особо. В литературно-эстетическом движении «Буря и натиск»[33 - От „St?rm und Drang“ – названия драмы Ф.М. Клингера (1752–1831), одного из активных деятелей движения. Отсюда и термин «штюрмеры» применительно к участникам «Бури и натиска».] бунтарский дух соединился с руссоизмом, литературными новациями Клопштока и историзмом Гердера. Среди тех, кто так или иначе был затронут этой молодежной субкультурой, были Бюргер, Ленц, Клингер, Шубарт, Гейнзе, Фосс, Гёте, Шиллер. У штюрмеров появляется идейный синдром, который не раз проявит себя в истории: индивидуалистическая критика цивилизации, культ непосредственности самовыражения и соединение всего этого с преклонением перед стихией национального, народного, фольклорного, традиционного. «Бурю и натиск» можно рассматривать как часть общего потока контрпросвещения, но именно немецкая его версия оказалась особенно важной для становления наук о культуре. Движение довольно быстро исчерпало себя из-за недостатка конструктивных идей, но штюрмерское наследство вошло как составной элемент в европейский романтизм.
И.В. Гёте (1749–1832) фокусирует в своем творчестве многие тенденции немецкого Просвещения, и, хотя специальной культурологической доктрины мы у него не находим, именно его идеи оказались в числе самых востребованных позднейшей традицией. В годы штюрмерской молодости Гёте был адептом национальной и личной самобытности: в народной поэзии, готической архитектуре («О немецком зодчестве», 1772), в творчестве таких мировых гениев, как Шекспир, он видел противовес оцепеневшей нормативности современной культуры и власти. Преодолев штюрмерство, Гёте приступает к выработке новой системы ценностей. В конце 1780-х годов кристаллизуется идеология веймарского классицизма, которую разрабатывают Шиллер и Гёте – сначала порознь, а затем в интенсивном и плодотворном сотрудничестве. Винкельмановский идеал гармонической личности наполняется натурфилософскими и историософскими идеями, в основе которых принципы «меры», «середины» и «здоровья». Дальше всего этот идеал от мещанской умеренности: Гёте героизирует способность носителя культуры вбирать опыт прошлого и находит бытийный центр, равноудаленный от всех крайностей. В романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (изд. 1795–1796) Гёте иллюстрирует идеи веймарского классицизма историей духовного становления молодого человека, прошедшего путь от эстетизма «театрального призвания» до осознанного выбора практического поприща.
В этот период Гёте вырабатывает свою эстетику, которая, как оказалось впоследствии, содержала большой культурологический потенциал. Отправной точкой для Гёте является «природа» – главный концепт его мировоззрения, живое, развивающееся, надличное бытие, включающее все сущее как свои части. Искусство, по Гёте, вместе со своим творцом, человеком, принадлежит природе, но в своем духовном аспекте оно все же «возвышается» над ней и обретает право соединять «рассеянные в природе моменты», придавая им «высшее значение и достоинство» («О правде и правдоподобии произведений искусства», 1797). Но, чтобы применить это право, художник должен найти правильную связь между всеобщим и особенным. Гёте решает таким образом классическую задачу Просвещения: задачу выхода из двух тупиков – абстрактной нормативности и слепой эмпиричности.
В работе «Простое подражание природе, манера, стиль» (1789) он различает три заглавных типа творчества, которые относятся друг к другу как два полюса к середине. «Простое подражание природе» воспроизводит явления в меру своего мастерства, не чувствуя духа целого; художник здесь проявляет спокойное утверждение сущего, его «любовное созерцание». «Манера» выражает особенность художественной индивидуальности автора, жертвуя конкретными деталями и подчиняя их общему замыслу; происходит «восприятие явлений подвижной и одаренной душой». «Стиль» проникает в саму сущность вещей, не выходя за пределы «видимых и осязаемых образов»; он «покоится на глубочайших твердынях познания», но не за счет абстракций, а благодаря найденному центральному образу, которому подчиняются частности. «Стиль» оказывается таким соединением противоположностей, которое возводит их на более высокий уровень, где объективное и субъективное примиряются. В поздней работе «Искусство и древность» (1821–1826) Гёте дает еще одно емкое пояснение: «Огромная разница, подыскивает ли поэт особенное для всеобщего или видит в особенном всеобщее. В первом случае возникает аллегория, где особенное служит лишь примером, случаем всеобщего; второй случай характеризует собственную природу поэзии, она передает особенное, не думая о всеобщем, не указывая на него. Кто, однако, схватывает это живое особенное, рано или поздно, не замечая, получает одновременно и всеобщее»[34 - Goethe. Kunst und Altertum // Goethe. S?mtliche Werke. Bd. 38. 1903. S. 261.]. Здесь перед нами не что иное, как формулировка гётевского символизма, который окажет на культурологию немалое влияние (табл. 1).
Таблица 1
Гётевский символизм
Для позднего Гёте характерны размышления о «мировой культуре» (возможно, что он и ввел в оборот это словосочетание, так же как в случае с «мировой литературой»). С одной стороны, он дорожит несоизмеримостью и своеобычием культур, с другой же – предвосхищая культурную компаративистику, утверждает плодотворность сравнений строения и воздействия аналогичных явлений культуры. Литературным воплощением этого метода стал цикл «Западно-восточный диван» (изд. 1819), в котором Гёте осуществляет попытку эмпатии, проникновения в дух персидской поэзии при виртуозном сохранении «европейской» точки отсчета.
Как ни странно, для понимания гётевского учения о культуре ключевыми оказываются его натурфилософские работы «Опыт о метаморфозе растений» (1790) и «Учение о цвете» (1810). Здесь Гёте выдвигает свою морфологию природы, основанную на поисках «прафеномена» – «первоявления», которое своей особенностью раскрывает всеобщность. Например, лист есть «перворастение», в котором заложена своего рода морфологическая «программа» для всех состояний всех возможных растений. В основу природной динамики Гёте полагает принципы полярности и восхождения. Раздваиваясь и вновь собираясь в единство, природа осуществляет бесконечное восхождение ко все более высоким степеням совершенства. Эти принципы Гёте прилагает и к миру культуры: «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821–1829), «Избирательное сродство» (1809) и, конечно, «Фауст» (1808–1832) в своей литературной оболочке скрывают модели духовной морфологии личности, общества и истории.
Ф. Шиллер (1759–1805) известен в истории культурологической мысли прежде всего своим концептом игры. Но, чтобы лучше понять его, нужно реконструировать контекст шиллеровского идейного мира. В работе «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795–1796) Шиллер различает два типа культур, которым соответствуют два типа творческой индивидуальности. «Наивное» – это стихийное прирожденное единство личности с природой, основанное на чувственности; «наивный» художник творит так же, как природа, – непосредственно и бессознательно, нуждаясь только в искусном самоограничении. «Сентиментальное» – это стремление идеального к природному воплощению, основанное на разумности; «сентиментальный» художник вечно стремится к недостижимому слиянию своей субъективности с реальностью, ломая ограничения и условности. (Эта дилемма проецировалась Шиллером на его отношения с Гёте, который был для него воплощением гармоничной «наивности».) Шиллер подчеркивает драматизм этого раскола и тем самым оказывается у истоков дихотомического понимания культуры как напряженного диалога двух неслиянных и нераздельных элементов. (Ср. позднейшие оппозиции «классическое – романтическое», «аполлинийское – дионисийское» и т. п.) Сами по себе эти полюса несоединимы (разве что в руссоистском доцивилизационном раю), но культура может и должна их примирить, тщательно охраняя их границы и способствуя внутреннему развитию каждой сферы, что приводит к сближению и если не к синтезу, то к временному равновесию. Социальный аспект этой роли культуры – эстетическое воспитание.
В работах «О грации и достоинстве» (1793) и «Письма об эстетическом воспитании» (1795) Шиллер утверждает, что способность эстетического воспитания без принуждения вовлечь человека в духовный мир позволяет надеяться на примирение долга и склонности; чувственности с ее «влечением к материи» и разума с его «влечением к форме». Такое состояние счастливого баланса Шиллер называет «прекрасной душой». В результате должно появиться «влечение к игре» (Spieltrieb), которое снимает конфликт противоположностей и, собственно, является главной тайной культуры. Игра позволяет преодолеть дистанцию между аморфным потоком жизни и холодной статикой формы, итогом чего оказывается красота. Не менее важно то, что в своем стремлении к красоте человек порождает не только искусство, но и самого себя и все человеческое сообщество, превращая свои скрытые возможности в гармоничную действительность. Формула Достоевского (знатока и поклонника Шиллера) «Красота спасет мир», скорее всего, коренится в этом комплексе идей. Путь понимания культуры, проложенный Шиллером, оказался более чем перспективным. Именно по нему пошли и посткантовская философия «трансцендентального идеализма», и немецкий романтизм.
Романтизм возник в 90-е годы XVIII в. в Германии, а затем распространился по всему западноевропейскому культурному региону. Но здесь нас интересует йенская школа немецкого романтизма как источник базовой культурологической концепции. Романтизм – это эстетическая революция, которая вместо науки и разума (что характерно для эпохи Просвещения) ставит высшей культурной инстанцией художественное творчество индивидуума – последнее становится образцом, «парадигмой» для всех видов культурной деятельности. Основная черта романтизма как движения – стремление противопоставить бюргерскому, «филистерскому» миру рассудка, закона, индивидуализма, утилитаризма, атомизации общества, наивной веры в линейный прогресс новую систему ценностей: культ творчества, примат воображения над рассудком, критику логических, эстетических и моральных абстракций, призыв к раскрепощению личностных сил человека, следование природе, миф, символ, стремление к синтезу и обнаружению взаимосвязи всего со всем. Довольно быстро аксиология романтизма, выработанная йенцами, выходит за рамки искусства и начинает определять стиль философии, естественно-научных изысканий, социологических построений, медицины, промышленности, одежды, поведения и т. д.
Парадоксальным образом романтизм соединял культ личной неповторимости индивидуума с тяготением к безличному, стихийному, коллективному; повышенную рефлективность творчества – с открытием мира бессознательного; игру, понимаемую как высший смысл творчества, – с призывами к внедрению эстетического в «серьезную» жизнь; индивидуальный бунт – с растворением в народном, родовом, национальном. Эту изначальную двойственность романтизма отражает его теория иронии, которая возводит в принцип несовпадение условных стремлений и ценностей с безусловным абсолютом как целью. К основным особенностям романтического стиля надо отнести игровую стихию, которая растворяла эстетические рамки классицизма; обостренное внимание ко всему своеобычному и нестандартному (причем особенному не просто отводилось место во всеобщем, как это делал барочный стиль или предромантизм, но переворачивалась сама иерархия общего и единичного); интерес к мифу и даже понимание мифа как идеала романтического творчества; символическое истолкование мира; стремление к предельному расширению арсенала жанров; опору на фольклор; предпочтение образа понятию, стремления – обладанию, динамики – статике; эксперименты по синтетическому объединению искусств; эстетическую интерпретацию религии; идеализацию прошлого и архаических культур, нередко выливающуюся в социальный протест; эстетизацию быта, морали, политики.
В полемике с Просвещением романтизм формулирует – явно или неявно – программу переосмысления и реформы философии в пользу художественной интуиции, в чем поначалу он очень близок раннему этапу немецкой классической философии. Философия для Новалиса и Ф. Шлегеля – главных теоретиков течения – вид интеллектуальной магии, с помощью которой гений, опосредуя собой природу и дух, создает органическое целое из разрозненных феноменов. Однако абсолют, восстановленный таким образом, романтики трактуют не как однозначную унитарную систему, а как постоянно самовоспроизводящийся процесс творчества, в котором единство хаоса и космоса каждый раз достигается непредсказуемо новой формулой. Акцент на игровом единстве противоположностей в абсолюте и неотчуждаемости субъекта от построенной им картины универсума делает романтиков соавторами диалектического метода, созданного немецким трансцендентализмом. Разновидностью диалектики можно считать и романтическую «иронию» с ее методом «выворачивания наизнанку» любой позитивности и принципом отрицания претензий любого конечного явления на универсальную значимость. Из этой же установки следует предпочтение романтизмом фрагментарности и «сократичности» как способов философствования. В конечном счете это – вкупе с критикой автономии разума – привело к размежеванию романтизма с немецкой классической философией и позволило Гегелю определить романтизм как самоутверждение субъективности: «Подлинным содержанием романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой – духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность и свободу»[35 - Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969. С. 233.].