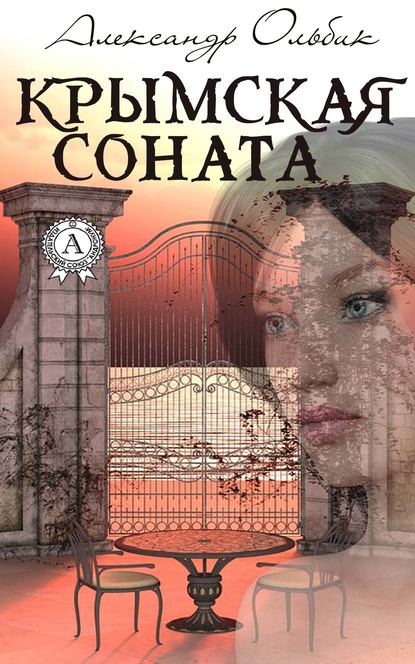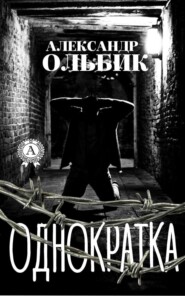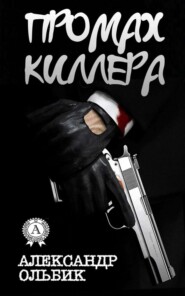По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крымская соната
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крымская соната
Александр Ольбик
Повесть Александра Ольбика "Крымская соната" основана на реальных событиях, и, в отличие от других произведений автора, здесь нет ни грана политики. События, описанные в книге, относятся к 60-м годам… Это трагическая любовная история, в которой отчетливо доминирует самоотверженность и жертвенность во имя самого сильного дара, которым природа наградила Человека. Это, конечно же, любовь…
Александр Ольбик
Крымская соната
Велики силы любви, располагающие любящих к трудным подвигам, перенесению чрезвычайных негаданных опасностей.
Джованни Боккаччо
Наверное, все южные аэропорты мира источают одинаковые запахи: смесь керосина и сгоревшего масла, накаленного солнцем дюраля, и всепроникающего аромата цветов. Сколько их здесь на 45 параллели: левкоев, роз, дымчато-синих глициний, да тех полевых, что сами, без всякого вмешательства со стороны человека, растут одинаково буйно и на бровках тротуаров, и на краю шоссейных дорог, в старых заброшенных палисадниках и в новых, только-только обжитых, скверах. И наступает благословенная пора, когда царство цветов в Симферополе восходит в свой прекрасный зенит, когда даже ветер, дующий со стороны аэропорта, ничего кроме весны не несет.
Берестов, как только вышел из самолета и полной грудью вдохнул теплый ароматный воздух, ощутил в себе что-то неладное. Его вдруг охватило такое чувство, как будто еще мгновение и земля под ногами разверзнится и он, прощаясь с жизнью, полетит в раскаленное чрево матери-земли.
Он остановился, опустил на бетонку чемодан и тут же присел на него. Камень отдавал зноем и Берестов, сняв пиджак, полез в карман за лекарством.
«Видно, дает о себе знать смена климатических поясов», – подумал он и, чтобы быстрее придти в себя, разжевал одновременно две таблетки нитроглицерина. И то ли они помогли, то ли организм стал отзываться на покой, только напряжение в груди и слабость в ногах стали отдаляться. И уже новым взглядом он окинул панораму аэропорта – застывшие в пляшущем мареве самолеты, пеструю толпу людей, разморенных и отягощенных разной поклажей, устремившуюся в проходы аэровокзала.
Берестов тоже поднялся с чемодана, взял его в руку, и с перекинутым через плечо пиджаком направился искать выход в город.
«Сколько же лет прошло, – размышлял он, – сколько годков я не был в этом городе? С 1962 года – считай, сорок с хвостиком». И пока он шел в сторону стоянки таксомоторов, в его памяти медленно начала прокручиваться черно-белая лента жизни. И когда он вышел из тени аэровокзала на залигую солнцем асфальтовую дорожку и направился по ней к стоящим невдалеке машинам, память продолжала вертеть и вертеть шустрый ролик воспоминаний. Вернее, она повторяла то, что всю жизнь ему виделось наяву и во сне, в самые постылые часы жизни и в редкие минуты благодати..
В самолете, в Симферополе и по дороге в Ялту Берестов готовил себя к встрече с прошлым, которое представлялось ему то миражом, то прекрасным перезвоном, а то пепелищем навек оставленного отчего дома. Он возвращался в места своей молодости – в места, где страдал, боролся и любил.
* * *
Покой мой в противотуберкулезном санатории «Кипарис» кончился. Позади остались беззаботные вылазки в горы и к морю, бильярд. шахматы – словом, все то, что составляет досуг выздоравливающего молодого парня, не обремененного ни угрызениями совести, ни изматывающим душу пристрастием к вину или привязанностью к женщине. Стоп! Именно это со мной и произошло. Первые дни нашего знакомства были омрачены твоей обострившейся болезнью. Из своего небольшого опыта тубика я знал, что самое страшное в нашем недуге – его неостановимый бег. Попридержать, стабилизировать распад – значит, повернуться на градус к жизни. А ты, судя по всему, относилась к числу тех неудачников, кто надолго отвернулся от нее. И в этом было мое отчаяние.
После твоего «заходите», я стал наведываться к тебе в палату. Я заметил, что у людей, подверженных длительным заболеваниям, очень естественно создаются мостки общения, не отягчающие стороны. Это получается как-то само собой, в духе цеховой солидарности. Не было, в этом смысле, исключением и паше с тобой знакомство. То я читал для тебя вслух «Семью Будденброков», то ты, включив магнитофон и, вручив мне томик стихов, заставляла меня читать Есенина или Блока, которые звучали в моем исполнении так. же, как если бы реквием Моцарта начали вдруг исполнять на пиле или на пионерском горне.
Однажды; во время «литературного часа», ты внезапно закашлялась, потянулась было к плевательнице, стоящей па полу, возле тумбочки, но в какое-то мгновение быстро отдернула руку. Стеснялась меня. На нижней губе показалась гранатовая капелька. Я протянул тебе свой платок, заверяя, что он чистый. Я отвернулся, а ты сделала то, что тебе нужно было сделать.
Ты откинулась на подушки и тихо, едва ли громче шелестящих за окном платанов, произнесла: «Ты не пугайся, это пройдет». Я не знал, что в ту минуту предпринять, куда кинуться за помощью. И, видя мое метание по палате, ты добавила: «Не паникуй, это не в первый раз».
Но я с этим мириться не желал. После того, как медсестра сделала тебе укол, я отправился к твоему лечащему врачу. Когда я к нему летел, меня переполняли страх и тоска. И солнце, нестерпимо яркое и животворное, в те минуты казалось мне злой издевкой.
– А почему вас интересует здоровье именно этой больной? – спросил меня твой врач Александр Николаевич Старков.
– В силу личных обстоятельств… Но дело, как вы понимаете, не во мне – я практически здоров. У нее кровотечение, она уже не встает с кровати.
Врач сидел у открытого окна, и его рука с зажатой между пальцами папиросой лежала на чьей-то, уже подготовленной к выписке истории болезни.
Один уголок бумаги слегка вибрировал на едва ощутимом сквозняке, издавая тихие звуки. Александр Николаевич смотрел за окно, и взгляд его, казалось, безнадежно уперся в старую глухую стену. Не глядя на меня, врач проговорил:
– Допустим, я вам о ней скажу правду, но что от этого изменится?
– Изменится! Говорите всю правду, прошу вас!
Он поднес к губам потухшую уже папиросу, тщетно затянулся и, убедившись, что удовольствия от нее больше не получит, безжалостно размял в стеклянной пепельнице.
– Хорошо, скажу. Сколько лет вы болеете туберкулезом?
– Два года…
– Тогда поймете, о чем я буду вести речь. У Тарасовой сто процентов легких пораженных кавернами и обсеменены глубокими очагами. Но даже с этими ее бедами можно было бы как-то бороться…
Александр Николаевич извлёк из пачки новую папиросу.
– Но дело в том, что ее организм – как бы это поточнее сказать? – исчерпал весь свой биологический резерв. А это, скажу я вам, страшно. Так бывает у людей долго болеющих и с очень мобильной нервной системой. – Смотрите, – врач взял с полки твою историю болезни, – гемоглобин у нее в течение двух месяцев падает и дошел уже до 47 единиц. Дальше идти ему некуда. То же самое можно сказать и про остальные ее клинические показатели. И это несмотря на то, что железа и витаминов она получает ударную дозу. Даже стрептомицин в этих условиях бессилен, да и плохо она его переносит, а потому палочек у нее сейчас – пруд пруди. Смотрите, какая создается злая закономерность: палочки Коха разъедают легкие, от этого растет интоксикация всего организма, из-за нее пропадает аппетит, а откуда ей брать силы? Появляется чувство обреченности. Словом, возникает порочный круг, разомкнуть который может только чудо.
– И что же, наша медицина бессильна?
– Медицина, молодой человек, многое может, но и она, увы, не волшебница. Наука хорошенько изучила саму болезнь, но сопутствующие ей психоэмоциональные издержки не исследованы. У Тарасовой надломлена психика, и будь даже у нее не столь тяжелое заболевание, я не уверен – справилась ли бы она с ним.
– Но человек на глазах умирает! Неужели, доктор, все так безнадежно?
Мне показалось, что при моих словах Александр Николаевич пожал плечами.
– Ее начинал лечить врач Сорокин. из фтизиатрического научно-исследовательского Институтата. Эго недалеко отсюда – в Массандре. А оттуда она к нам пришла немного подлечившаяся. Правда, каверны остались те же, но общее состояние было намного лучше. И вдруг все рухнуло.
– Когда это «вдруг» случилось?
—Месяца три назад. Возможно, это связано с ее личными делами… У нее были какие-то неприятности с дочерью. Однако ничего определенного об этом сказать вам не могу.
В один из дней, когда ты чувствовала себя относительно неплохо, температура была невысокая, я пришел к тебе объясниться. Нет, не в любви. Я решил поговорить о твоей болезни. Я избрал, как мне тогда казалось, самую оптимальную тактику: бери быка за рога. Начал я, примерно, в таком духе. Да, я не врач и даже не знахарь. Но глупо сидеть сложа руки, когда… когда речь идет о жизни и смерти. Разве я ничего не вижу? Ты больна туберкулезом, но им болеют 20 миллионов человек на Земле. А разве все они умирают? Чушь! – Я строчил, как из пулемета Максим. – У тебя же сущий пустяк: две-три каверны. И у меня такое было, и вот видишь – жив! Да что там я! Мне пришлось лежать в больнице с одним инженером, у которого был общий туберкулез, бациллы в суставах ног и рук, в почках, на веках глаз, в легких. И человек не раскисает – он живет, работает. Чехов после первого кровотечения прожил более 20 лет — и как прожил! Максим Горький – сорок лет сосуществовал с чахоткой. А ведь ты учти, тогда ни стрептомицина, ни фтивазида, ни ПАСКа и в помине еще не было. Да при теперешнем уровне медицинынеизлечимого туберкулеза не бывает. Не бывает!
Проговорив всю эту банальщину, я решил дождаться твоей реакции.
Втвоем лице вдруг что-то изменилось и ты жестко сказала:
– Это ты так говоришь потому, что сам еще не хлебнул горя, и хорошо, что не хлебнул. У тебя сейчас на глазах розовые очки, а я уже болею целую вечность. Я уже безнадежный хроник. Да и не в этом дело – не люблю, когда за меня начинают проживать мою жизнь.
Я слушал тебя, стараясь сохранить на лине святость Николая Угодника… И ты, видно, почувствовав резкость своих слов, и, чтобы как-то их сгладить, сказала: «Но пока никто и не собирается заказывать гроб. Прошу тебя, не надо на меня давить. Даже если это делается с самыми благими намерениями».
Я нисколько на тебя не обиделся – наоборот: твоя ершистость даже обнадеживала. Но я все-таки сказал:
– Бывают в жизни такие моменты, когда, действительно, сам Господь Бог не может судить, кто прав, а кто виноват. Поверь, я совсем не хотел вмешиваться в твои дела, но нельзя же в самом деле так бесхребетно потрафлять этой сволочной болезни.
– Да я меньше всего о себе думаю. У меня Ленка тоже больна. И я по ней невыносимо скучаю и боюсь за нее. Достаточно в семье одного тубика…
Прошла неделя, и ты, наконец, поднялась с кровати. Тебя буквально шатало, и я ходил с подветренной стороны, не на шутку боясь, что ветер сдует тебя и унесет в море. Ты поднялась с постели не потому что вдруг выздоровела, а просто гноящаяся, кровоточащая рана в твоей груди на какое-то время засохла. У хроников такое случается.
Вечером, перед самым сном, я вернулся в свою палату и, чтобы слышали все, громко сказал: «В сегодняшней «Курортной газете» прочитал любопытную статью о Кохе. Чтобы доказать действие открытой им палочки, он при свидетелях выпил их целую пробирку. И ничего… Без стрептомицина и фтивазида обошелся. А нас, чем только не пичкают, а все равно толку мало».
Это была самая настоящая провокация, на которую я очень рассчитывал. В тот же вечер я узнал от сопалатников множество историй, связанных с: туберкулезом —начиная с античных времен и кончая историями наших конкретных болячек.
Сколькоже их существует, этих мыслимых и немыслимых методов лечения туберкулеза: и настои из тополиных и березовых почек, и отвар из столетника, лимонов, яиц и вина, барсучий и собачий жир, денатурат «по одной столовой ложке перед едой», сок чесночный, масло облепихи…
Александр Ольбик
Повесть Александра Ольбика "Крымская соната" основана на реальных событиях, и, в отличие от других произведений автора, здесь нет ни грана политики. События, описанные в книге, относятся к 60-м годам… Это трагическая любовная история, в которой отчетливо доминирует самоотверженность и жертвенность во имя самого сильного дара, которым природа наградила Человека. Это, конечно же, любовь…
Александр Ольбик
Крымская соната
Велики силы любви, располагающие любящих к трудным подвигам, перенесению чрезвычайных негаданных опасностей.
Джованни Боккаччо
Наверное, все южные аэропорты мира источают одинаковые запахи: смесь керосина и сгоревшего масла, накаленного солнцем дюраля, и всепроникающего аромата цветов. Сколько их здесь на 45 параллели: левкоев, роз, дымчато-синих глициний, да тех полевых, что сами, без всякого вмешательства со стороны человека, растут одинаково буйно и на бровках тротуаров, и на краю шоссейных дорог, в старых заброшенных палисадниках и в новых, только-только обжитых, скверах. И наступает благословенная пора, когда царство цветов в Симферополе восходит в свой прекрасный зенит, когда даже ветер, дующий со стороны аэропорта, ничего кроме весны не несет.
Берестов, как только вышел из самолета и полной грудью вдохнул теплый ароматный воздух, ощутил в себе что-то неладное. Его вдруг охватило такое чувство, как будто еще мгновение и земля под ногами разверзнится и он, прощаясь с жизнью, полетит в раскаленное чрево матери-земли.
Он остановился, опустил на бетонку чемодан и тут же присел на него. Камень отдавал зноем и Берестов, сняв пиджак, полез в карман за лекарством.
«Видно, дает о себе знать смена климатических поясов», – подумал он и, чтобы быстрее придти в себя, разжевал одновременно две таблетки нитроглицерина. И то ли они помогли, то ли организм стал отзываться на покой, только напряжение в груди и слабость в ногах стали отдаляться. И уже новым взглядом он окинул панораму аэропорта – застывшие в пляшущем мареве самолеты, пеструю толпу людей, разморенных и отягощенных разной поклажей, устремившуюся в проходы аэровокзала.
Берестов тоже поднялся с чемодана, взял его в руку, и с перекинутым через плечо пиджаком направился искать выход в город.
«Сколько же лет прошло, – размышлял он, – сколько годков я не был в этом городе? С 1962 года – считай, сорок с хвостиком». И пока он шел в сторону стоянки таксомоторов, в его памяти медленно начала прокручиваться черно-белая лента жизни. И когда он вышел из тени аэровокзала на залигую солнцем асфальтовую дорожку и направился по ней к стоящим невдалеке машинам, память продолжала вертеть и вертеть шустрый ролик воспоминаний. Вернее, она повторяла то, что всю жизнь ему виделось наяву и во сне, в самые постылые часы жизни и в редкие минуты благодати..
В самолете, в Симферополе и по дороге в Ялту Берестов готовил себя к встрече с прошлым, которое представлялось ему то миражом, то прекрасным перезвоном, а то пепелищем навек оставленного отчего дома. Он возвращался в места своей молодости – в места, где страдал, боролся и любил.
* * *
Покой мой в противотуберкулезном санатории «Кипарис» кончился. Позади остались беззаботные вылазки в горы и к морю, бильярд. шахматы – словом, все то, что составляет досуг выздоравливающего молодого парня, не обремененного ни угрызениями совести, ни изматывающим душу пристрастием к вину или привязанностью к женщине. Стоп! Именно это со мной и произошло. Первые дни нашего знакомства были омрачены твоей обострившейся болезнью. Из своего небольшого опыта тубика я знал, что самое страшное в нашем недуге – его неостановимый бег. Попридержать, стабилизировать распад – значит, повернуться на градус к жизни. А ты, судя по всему, относилась к числу тех неудачников, кто надолго отвернулся от нее. И в этом было мое отчаяние.
После твоего «заходите», я стал наведываться к тебе в палату. Я заметил, что у людей, подверженных длительным заболеваниям, очень естественно создаются мостки общения, не отягчающие стороны. Это получается как-то само собой, в духе цеховой солидарности. Не было, в этом смысле, исключением и паше с тобой знакомство. То я читал для тебя вслух «Семью Будденброков», то ты, включив магнитофон и, вручив мне томик стихов, заставляла меня читать Есенина или Блока, которые звучали в моем исполнении так. же, как если бы реквием Моцарта начали вдруг исполнять на пиле или на пионерском горне.
Однажды; во время «литературного часа», ты внезапно закашлялась, потянулась было к плевательнице, стоящей па полу, возле тумбочки, но в какое-то мгновение быстро отдернула руку. Стеснялась меня. На нижней губе показалась гранатовая капелька. Я протянул тебе свой платок, заверяя, что он чистый. Я отвернулся, а ты сделала то, что тебе нужно было сделать.
Ты откинулась на подушки и тихо, едва ли громче шелестящих за окном платанов, произнесла: «Ты не пугайся, это пройдет». Я не знал, что в ту минуту предпринять, куда кинуться за помощью. И, видя мое метание по палате, ты добавила: «Не паникуй, это не в первый раз».
Но я с этим мириться не желал. После того, как медсестра сделала тебе укол, я отправился к твоему лечащему врачу. Когда я к нему летел, меня переполняли страх и тоска. И солнце, нестерпимо яркое и животворное, в те минуты казалось мне злой издевкой.
– А почему вас интересует здоровье именно этой больной? – спросил меня твой врач Александр Николаевич Старков.
– В силу личных обстоятельств… Но дело, как вы понимаете, не во мне – я практически здоров. У нее кровотечение, она уже не встает с кровати.
Врач сидел у открытого окна, и его рука с зажатой между пальцами папиросой лежала на чьей-то, уже подготовленной к выписке истории болезни.
Один уголок бумаги слегка вибрировал на едва ощутимом сквозняке, издавая тихие звуки. Александр Николаевич смотрел за окно, и взгляд его, казалось, безнадежно уперся в старую глухую стену. Не глядя на меня, врач проговорил:
– Допустим, я вам о ней скажу правду, но что от этого изменится?
– Изменится! Говорите всю правду, прошу вас!
Он поднес к губам потухшую уже папиросу, тщетно затянулся и, убедившись, что удовольствия от нее больше не получит, безжалостно размял в стеклянной пепельнице.
– Хорошо, скажу. Сколько лет вы болеете туберкулезом?
– Два года…
– Тогда поймете, о чем я буду вести речь. У Тарасовой сто процентов легких пораженных кавернами и обсеменены глубокими очагами. Но даже с этими ее бедами можно было бы как-то бороться…
Александр Николаевич извлёк из пачки новую папиросу.
– Но дело в том, что ее организм – как бы это поточнее сказать? – исчерпал весь свой биологический резерв. А это, скажу я вам, страшно. Так бывает у людей долго болеющих и с очень мобильной нервной системой. – Смотрите, – врач взял с полки твою историю болезни, – гемоглобин у нее в течение двух месяцев падает и дошел уже до 47 единиц. Дальше идти ему некуда. То же самое можно сказать и про остальные ее клинические показатели. И это несмотря на то, что железа и витаминов она получает ударную дозу. Даже стрептомицин в этих условиях бессилен, да и плохо она его переносит, а потому палочек у нее сейчас – пруд пруди. Смотрите, какая создается злая закономерность: палочки Коха разъедают легкие, от этого растет интоксикация всего организма, из-за нее пропадает аппетит, а откуда ей брать силы? Появляется чувство обреченности. Словом, возникает порочный круг, разомкнуть который может только чудо.
– И что же, наша медицина бессильна?
– Медицина, молодой человек, многое может, но и она, увы, не волшебница. Наука хорошенько изучила саму болезнь, но сопутствующие ей психоэмоциональные издержки не исследованы. У Тарасовой надломлена психика, и будь даже у нее не столь тяжелое заболевание, я не уверен – справилась ли бы она с ним.
– Но человек на глазах умирает! Неужели, доктор, все так безнадежно?
Мне показалось, что при моих словах Александр Николаевич пожал плечами.
– Ее начинал лечить врач Сорокин. из фтизиатрического научно-исследовательского Институтата. Эго недалеко отсюда – в Массандре. А оттуда она к нам пришла немного подлечившаяся. Правда, каверны остались те же, но общее состояние было намного лучше. И вдруг все рухнуло.
– Когда это «вдруг» случилось?
—Месяца три назад. Возможно, это связано с ее личными делами… У нее были какие-то неприятности с дочерью. Однако ничего определенного об этом сказать вам не могу.
В один из дней, когда ты чувствовала себя относительно неплохо, температура была невысокая, я пришел к тебе объясниться. Нет, не в любви. Я решил поговорить о твоей болезни. Я избрал, как мне тогда казалось, самую оптимальную тактику: бери быка за рога. Начал я, примерно, в таком духе. Да, я не врач и даже не знахарь. Но глупо сидеть сложа руки, когда… когда речь идет о жизни и смерти. Разве я ничего не вижу? Ты больна туберкулезом, но им болеют 20 миллионов человек на Земле. А разве все они умирают? Чушь! – Я строчил, как из пулемета Максим. – У тебя же сущий пустяк: две-три каверны. И у меня такое было, и вот видишь – жив! Да что там я! Мне пришлось лежать в больнице с одним инженером, у которого был общий туберкулез, бациллы в суставах ног и рук, в почках, на веках глаз, в легких. И человек не раскисает – он живет, работает. Чехов после первого кровотечения прожил более 20 лет — и как прожил! Максим Горький – сорок лет сосуществовал с чахоткой. А ведь ты учти, тогда ни стрептомицина, ни фтивазида, ни ПАСКа и в помине еще не было. Да при теперешнем уровне медицинынеизлечимого туберкулеза не бывает. Не бывает!
Проговорив всю эту банальщину, я решил дождаться твоей реакции.
Втвоем лице вдруг что-то изменилось и ты жестко сказала:
– Это ты так говоришь потому, что сам еще не хлебнул горя, и хорошо, что не хлебнул. У тебя сейчас на глазах розовые очки, а я уже болею целую вечность. Я уже безнадежный хроник. Да и не в этом дело – не люблю, когда за меня начинают проживать мою жизнь.
Я слушал тебя, стараясь сохранить на лине святость Николая Угодника… И ты, видно, почувствовав резкость своих слов, и, чтобы как-то их сгладить, сказала: «Но пока никто и не собирается заказывать гроб. Прошу тебя, не надо на меня давить. Даже если это делается с самыми благими намерениями».
Я нисколько на тебя не обиделся – наоборот: твоя ершистость даже обнадеживала. Но я все-таки сказал:
– Бывают в жизни такие моменты, когда, действительно, сам Господь Бог не может судить, кто прав, а кто виноват. Поверь, я совсем не хотел вмешиваться в твои дела, но нельзя же в самом деле так бесхребетно потрафлять этой сволочной болезни.
– Да я меньше всего о себе думаю. У меня Ленка тоже больна. И я по ней невыносимо скучаю и боюсь за нее. Достаточно в семье одного тубика…
Прошла неделя, и ты, наконец, поднялась с кровати. Тебя буквально шатало, и я ходил с подветренной стороны, не на шутку боясь, что ветер сдует тебя и унесет в море. Ты поднялась с постели не потому что вдруг выздоровела, а просто гноящаяся, кровоточащая рана в твоей груди на какое-то время засохла. У хроников такое случается.
Вечером, перед самым сном, я вернулся в свою палату и, чтобы слышали все, громко сказал: «В сегодняшней «Курортной газете» прочитал любопытную статью о Кохе. Чтобы доказать действие открытой им палочки, он при свидетелях выпил их целую пробирку. И ничего… Без стрептомицина и фтивазида обошелся. А нас, чем только не пичкают, а все равно толку мало».
Это была самая настоящая провокация, на которую я очень рассчитывал. В тот же вечер я узнал от сопалатников множество историй, связанных с: туберкулезом —начиная с античных времен и кончая историями наших конкретных болячек.
Сколькоже их существует, этих мыслимых и немыслимых методов лечения туберкулеза: и настои из тополиных и березовых почек, и отвар из столетника, лимонов, яиц и вина, барсучий и собачий жир, денатурат «по одной столовой ложке перед едой», сок чесночный, масло облепихи…