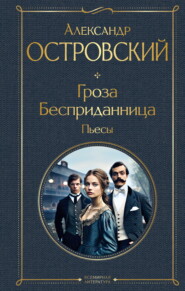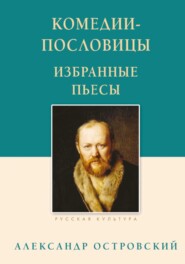По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последняя жертва
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михевна. Про деньги не знаю, а подарки ему идут поминутно, и все дорогие. Ни в чем у него недостатка не бывает, и в квартире-то все наше: то она ему чернилицу новую на стол купит со всем прибором…
Глафира Фирсовна. Чернилица новая, дорогая, а писать нечего.
Михевна. Какое писанье! когда ему! Он и дома-то не живет. И занавески ему на окна переменит, и мебель всю заново. А уж это посуда, белье и что прочее, так он и не знает, как у него все новое является, – ему-то все кажется, что все то же. Да чего уж, до самой малости: чай с сахаром, и то от нас туда идет.
Глафира Фирсовна. Все еще это не беда, стерпеть можно. Разные бабы-то бывают: которая любовнику вещами – та еще, пожалуй, капитал и сбережет; а которая деньгами, ну, уж тут разоренье верное.
Михевна. Сахару больно жалко: много его у них выходит… Куда им пропасть этакая?
Глафира Фирсовна. Как же это у вас случилось, как ее угораздило такой хомут на шею надеть?
Михевна. Да все эта дача проклятая. Как жили мы тогда, вскоре после покойника, на даче, – жили скромно, людей обегали, редко когда и на прогулку ходили, и то куда подальше; тут его и нанесло, как на грех. Куда ни выдем из дому, все встретится, да встретится. Да молодой, красивый, одет как картинка; лошади, коляски какие. А сердце-то ведь не камень. Ну, и стал присватываться, она не прочь: чего еще, жених хоть куда и богатый. Только положили так, чтоб отсрочить свадьбу до зимы: еще мужу год не вышел, еще траур носила. А он, между тем временем, каждый день ездит к нам как жених, и подарки, и букеты возит. И так она в него вверилась, и так расположилась, что стала совсем как за мужа считать. Да и он без церемонии стал ее добром, как своим, распоряжаться. Что твое, что мое, говорит, это все одно. А ей это за радость: «Значит, говорит, он мой, коли так поступает; теперь у нас, говорит, за малым дело стало, только повенчаться».
Глафира Фирсовна. Да, за малым! Ну, нет, не скажи! Что ж дальше-то? Траур кончился, зима пришла…
Михевна. Зима-то пришла, да и прошла, да вот и другая скоро придет.
Глафира Фирсовна. А он все еще в женихах числится?
Михевна. Все еще в женихах.
Глафира Фирсовна. Долгонько. Пора б порешить чем-нибудь, а то что людей-то срамить!
Михевна. Да чем, матушка! Как мы живем? Такая-то тишина, такая-то скромность, прямо надо сказать, как есть монастырь. Мужского духу и в заводе нет. Ездит один Вадим Григорьич, что греха таить, да и тот больше в сумеречках. Даже которые его приятели и тем к нам ходу нет. Есть у него один такой, Дергачев прозывается, тот раза два, было, сунулся.
Глафира Фирсовна. Не попотчуют ли, мол, чем?
Михевна. Ну, конечно, человек бедный, живет впроголодь – думает и закусить, и винца выпить. Я так их и понимаю. Да я, матушка, пугнула его. Нам не жаль, да бережемся: мужчины чтоб ни-ни, ни под каким видом. Вот как мы живем. И все-то она молится, да постится, бог с ней.
Глафира Фирсовна. Какая ж тому причина, с чего ей?..
Михевна. Чтоб женился. Уж это всегда так.
Глафира Фирсовна. А я так думаю, что не даст ей бог счастья. Родню забывает… Уж коли задумала она капитал размотать, так лучше бы с родными, чем с чужими. Взяла бы хоть меня; по крайности, и я бы пожила в удовольствие на старости лет…
Михевна. Это уж ее дело; а я знаю, что у ней к родным расположение есть.
Глафира Фирсовна. Незаметно что-то. Сама прочь от родных, так и от нас ничего хорошего не жди, особенно от меня. Женщина я не злая, а ноготок есть, удружить могу. Ну, вот и спасибо, только мне и нужно: все я от тебя вызнала. Что это, Михевна, как две бабы сойдутся, так они наболтают столько, что в большую книгу не упишешь, и наговорят того, что, может быть, и не надо?
Михевна. Наша слабость такая, женская. Разумеется, по надежде говоришь, что ничего из этого дурного не выдет. А кто же вас знает: в чужую душу не влезешь, может, вы с каким умыслом выспрашиваете. Да вот она и сама, а я уж по хозяйству пойду. (Уходит.)
Входит Юлия Павловна.
Явление второе
Глафира Фирсовна, Юлия.
Юлия(снимая платок). Ах, тетенька, какими судьбами? Вот обрадовали!
Глафира Фирсовна. Полно, полно, уж будто и рада?
Юлия. Да еще бы! Конечно, рада. (Целуются.)
Глафира Фирсовна. Бросила родню-то, да и знать не хочешь! Ну, я не спесива, сама пришла; уж рада не рада ль, а не выгонишь, ведь тоже родная.
Юлия. Да что вы! Я родным всегда рада; только жизнь моя такая уединенная, никуда не выезжаю. Что делать-то, уж такая я от природы! А ко мне всегда милости просим.
Глафира Фирсовна. Что это ты, как мещанка, платком покрываешься? Точно сирота какая.
Юлия. Да и то сирота.
Глафира Фирсовна. С таким сиротством еще можно жить. Ох, сиротами-то зовут тех, кого пожалеть некому, а у богатых вдов печальники найдутся! Да я бы, на твоем месте, не то что в платочке, а в аршин бы шляпу-то соорудила, развалилась в коляске, да и покатывай! На, мол, смотри!
Юлия. Не удивишь нынче никого, что ни надень. Да и мне рядиться-то не к чему и не к месту было, – я к вечерне ходила.
Глафира Фирсовна. Да, уж тут попугаем-то вырядиться не для кого, особенно в будни. Да что ты долго? Вечерни-то давненько отошли.
Юлия. Да после вечерни-то свадьба была простенькая, так я осталась посмотреть.
Глафира Фирсовна. Чего это ты, милая, не видала? Свадьба, как свадьба. Чай, обвели да и повезли, не редкость какая.
Юлия. Все-таки, тетенька, интересно на чужую радость посмотреть.
Глафира Фирсовна. Ну, посмотрела, позавидовала чужому счастью и довольно. Аль ты свадьбы-то смотришь, как мы, грешные? Мы так глаза-то вытаращим, что не то, что бриллианты, а все булавки-то пересчитаем. Да еще глазам-то не верим, так у всех провожатых и платья, и блонды перещупаем, настоящие ли?
Юлия. Нет, тетенька, я в народе не люблю: я издали смотрела; в другом приделе стояла. И какой случай! Вижу я, входит девушка, становится поодаль, в лице ни кровинки, глаза горят, уставилась на жениха-то, вся дрожит, точно помешанная. Потом, гляжу, стала она креститься, а слезы в три ручья так и полились. Жалко мне ее стало, подошла я к ней, чтобы разговорить, да увести поскорее. И сама-то плачу.
Глафира Фирсовна. Ты-то об чем, не слыхать ли?
Юлия. Заговорили мы: «Пойдемте, говорю я, дорогой потолкуем! Мы тут со слезами-то не лишние ли?» – «Вы-то, не знаю, говорит, а я лишняя». Посмотрела с минуточку на жениха, кивнула головой; прошептала «прощай», и пошли мы со слезами.
Глафира Фирсовна. Дешевы слезы-то у вас.
Юлия. Уж очень тяжело это слово-то «прощай». Вспомнила я мужа-покойника: очень я плакала, как он умер; а как пришлось сказать «прощай», – в последний раз, – так ведь я было сама умерла. А каково сказать: «Прощай на век» живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить.
Глафира Фирсовна. Эка у вас печаль по этим заблужденным! Да бог с ней! Всякая должна знать, что только божье крепко.
Юлия. Так-то так, тетенька, да коли любишь человека, коль всю душу в него положила?
Глафира Фирсовна. И откуда это в вас такая горячая любовь проявляется?
Юлия. Что ж делать-то! Ведь уж это кому как дано. Конечно, кто любви не знает, тем легче жить на свете.
Глафира Фирсовна. Э, да что нам до чужих! Поговорим о себе! Как твой-то сокол?
Юлия. Какой мой сокол?
Глафира Фирсовна. Ну, как величать-то прикажешь? Жених там, что ли? Вадим Григорьич.