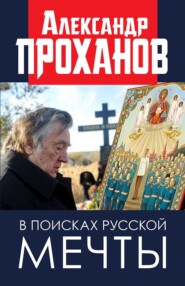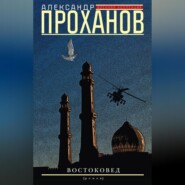По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Папа, не пей… Мама говорит, тебе нельзя пить… Она опять плакать будет…
Левушка, держа одной рукой стакан, другой обнял сына, нежно поцеловал в бледный выпуклый лоб:
– Алешенька, это ничего… не страшно… это я в последний раз… Эту пагубу мы одолеем… Я тебе обещаю… Ну иди, мой милый, иди. – Он ласково выпроводил сына, вновь обратился к Коробейникову: – Что я тебе хочу сказать, Миша… Давно собирался… Прости ради бога, но ты пребываешь в прельщении… Тебе Господом дан редкий талант, у тебя чуткое возвышенное сердце, но ты, поверь, на ложном пути… Твое увлечение атрибутами государства, упоение техникой, воспевание того, что ты сам называешь мегамашиной… Это соблазн, уход от вечных животворящих истин… Нет правды в машине… Мегамашина – это и есть атеистическое безбожное государство. Это и есть Сатана, овеществленный в нынешней грешной цивилизации князь мира сего… Ты должен с этим порвать…
– Но ведь сказано: «Дух дышит, где хочет…» – слабо сопротивлялся Коробейников, не чувствуя в себе полемического жара, созерцая кремневые топоры и бронзовые наконечники сквозь запыленное стекло музейной коробки, где они светились, словно драгоценные украшения. – Когда-то Дух дышал только в храме, только в обители жрецов, но потом он вырвался из чертога фарисеев и саддукеев и обнаружил себя среди нищих рыбарей, «малых мира сего». Почему ты считаешь, что он не дышит в танке Т-34, штурмующем Берлин, или в великолепном городе, возводимом в сибирской тайге… Задача художника – одухотворить машину, обезопасить ее, сделать вместилищем Духа живого…
– Миша, это ересь, затмение… Мишенька, милый, ведь ты не от мира сего… Говорю тебе, приди ко Христу!.. Крестись!.. Через несколько дней я принимаю сан и готов крестить тебя первым из моих прихожан здесь, в Иордане, под стенами Нового Иерусалима… Ты сразу почувствуешь, что приобщился истины… Христос войдет в тебя, приумножит твой талант, направит его на служение небесной красоте…
Левушка страстно взирал на него яркими глазами апостола, побуждая креститься, спасти заблудшую душу, успеть с этим дивным таинством к моменту, когда во всей своей грозной славе явится на землю Христос. И тогда вместе они встретят его ликующими псалмами.
– Мир чудесен, находится в руках Божиих. Как знать, мой друг, быть может, мы завершим свои дни монахами в этой разоренной ныне обители, которая воссияет из руин в Божественном блеске…
Коробейникову было сладостно внимать. Он вдруг подумал, что многие борются за его душу, влекут в свою веру. Редактор Стремжинский манит в партию, обещая приобщить к тайнам политики, повести к вершинам успеха. Друг Левушка зовет в церковь, побуждая креститься, обещая чудесное прозрение и нетленную жизнь. Но он повременит, еще задержится на таинственном перепутье, на загадочной развилке дорог, от которой одна ведет к великолепной стомерной громаде, к прекрасной и пленительной башне. А другая – к тихому сельскому храму с покосившейся луковкой, с убогими сырыми могилками, на которых лежат поминальные гроздья рябины. Он сделает выбор, но не теперь, не сейчас. В романе, который ему предстоит написать, его герой, а значит, и он сам, Коробейников, пройдет путями искушений и трат и, умудренный скорбями, сделает выбор.
– Ну что, брат, давай опустошим наши чары… – Левушка тянул свой стакан.
Занавеска приоткрылась, и появилась жена Левушки Андроника со своим красивым изможденным лицом, на котором большие, греческие, обведенные темными кругами глаза глядели испуганно, умоляюще.
– Лева, ну я тебя слезно молю, ну не пей же!.. Это погубит тебя!.. Ты собираешься принять сан, проповедовать чистую жизнь, а сам отравлен этим пороком. Чему ты сможешь научить людей? Тебя ждет позор…
– Матушка Андроника, уверяю тебя, это последний стакан, который я выпиваю перед принятием сана, и затем отрекаюсь от вина. Не оно мной правит, а я им. Говорю ему «нет» и отвергаю его… Ты понимаешь, Миша, ее тревога естественна. – Он обратился к Коробейникову, указывая стаканом на жену. – Она покуда не понимает меня, не понимает смысла моих деяний. Она – гречанка, светская, суетная женщина. Мечтает о развлечениях, театрах, веселом обществе, а я предлагаю ей путь скитаний, путь служения. Нас ждет захолустье, какой-нибудь бедный глухой приход, где нет танцевальных залов и светских гостиных, но смиренное служение и подвиг… Милая моя жена, – он снова повернулся к Андронике, обратился к ней проникновенно и ласково, как говорят с малыми детьми или домашними, любимыми, несмышлеными животными, – ты мне доверься. Постепенно ты полюбишь нашу тихую смиренную жизнь. Ты – гречанка. Значит, в твоей крови текут воспоминания о православной праматери Византии. Ты предрасположена к вере, будешь стоять на ней крепче меня, поддерживать меня в минуты моих слабостей…
– Миша, ну скажи ему, чтоб не пил… На что он себя обрекает? – безнадежно и горько произнесла Андроника, и ее темные, готовые к слезам глаза скрылись за пологом.
– Давай, брат, выпьем, – торопливо, жадно глядя на водку, сказал Левушка.
Они выпили, и Коробейников почувствовал, как полыхнуло у глаз голубое пламя и ярче, ослепительней засверкало ночное солнце.
– Братие. – Левушка вышел из-под полога, обращаясь к единоверцам. – Теперь, как мы и хотели, настало время отправиться к могиле преподобного патриарха Никона, помолиться и испросить у великого молитвенника Земли Русской, ответных молитв.
Все они накинули кто кофты и куртки, кто поношенные пальто. Оставили жаркую, озаренную келью, ступили в ночной воздух.
Коробейников с пылающим лицом вдыхал сладкий, студеный воздух великолепной августовской ночи. Неровные гребни взорванных стен и башен, развалины монастырских соборов были похожи на черные скалы, накрытые сверху огромным дышащим небом. Пылали мириады созвездий, мерцали белые жемчужные сгустки, разноцветно переливались близкие и далекие звезды, проносились медные летучие искры, внезапно вспыхивали алые, голубые, изумрудные блески и тут же пропадали среди млечных туманов. Коробейников испытывал восторг, ступая по черным мокрым лопухам, задевая за колючие травы. Видел, как на зыбкой тропке колышутся впереди фигуры спутников. Левушка вывел их сквозь пролом наружу, и с высоты монастырской горы открылись ночные луга, недвижно зачернели деревья, едва различимо замерцала река и, далекие, восходящие к звездам, волнисто потянулись леса. Коробейников чувствовал святость этих ночных пространств, исходившую от них нежность, потаенное свечение, неуловимое для глаз, но ощутимое для любящего чуткого сердца. Великий патриарх данной ему Божественной силой совершил перенесение евангельских святынь в эти подмосковные поля и деревни. Коробейников вглядывался в ночь и видел на огромной многоцветной иконе евангельские жития.
То чудилась ему хвостатая голубая звезда, вставшая посреди неба, и под этой лучистой звездой в деревенском хлеве Богородица, утомленная родами, подносила к груди новоявленное дивное чадо. То начинала мерцать река, озарялись омуты с дремлющей серебряной рыбиной, в воду ступал Христос, и сверху на синем луче спускался сверкающий голубь. Вспыхивал прозрачными зарницами ближний лес, падали ниц апостолы, и над ними в голубом ореоле, в Фаворском сиянии, являл себя грозный Бог. Гремели звоны, народ кидал на землю живые розы, в монастырские ворота на белой ослице въезжал Спаситель. Мерцала ночная листва Гефсиманского сада, дрожала в свете луны золоченая чаша, и Иисус подносил уста к переполненной чаше, проливал на одежды кипящее вино. Высоко, среди звезд, на Кресте умирал Господь, струилась по ребрам горячая кровь, падала в далекие, за Истрой, луга, и в селе Бужарово среди ночи у малой избушки расцветал от тех капель шиповник.
Коробейников качался на тропке, голова у него сладко кружилась, и он любил эти волшебные русские дали, благодарил Того, кто посылал ему эти видения.
Они обогнули монастырь, остановились у стен, где открывался вид на близкий поселок. Желтели окна соседних домов. Катились по шоссе водянистые огни автомобилей. В ночное небо дико и пугающе почти у самых монастырских стен возносился белый громадный купол. Словно лежало непомерных размеров яйцо. В поселке размещался секретный научный институт, и под белой оболочкой купола скрывалась невидимая установка – то ли устройство для улавливания молний, то ли громадная, шарящая в небесах антенна, посылающая к звездам закодированные земные сигналы. Вид купола был чужероден, нелеп, странен. Словно здесь побывало фантастическое существо, громадная змея или птица. Отложило яйцо, и теперь оно вызревало под туманными звездами.
– Вот она, твоя мегамашина. – Левушка указывал Коробейникову на яйцо. – Гордыня человека, который тщится схватить рукой небесную молнию, вознестись выше Бога. Но как Вавилонская башня, этот мерзкий кокон будет разрушен. Каждый раз, когда я его вижу, я молюсь: «Господи, сокруши Сатану!» И когда-нибудь, поверь, я буду услышан…
Коробейников не отвечал. Хотел угадать, что скрывается за глазированной скорлупой. Какие вольтовы дуги проскакивают между невидимыми электродами? Какие плазменные вихри бушуют в коконе? Какой зародыш бьется внутри, стараясь выйти наружу? Восхитительная райская птица в радужных перьях, с лучезарным хвостом. Или ужасный дракон с перепончатыми красными крыльями.
– Они разрушили храм Бога живого и возвели храм Сатаны… – перекрестился Левушка и увел их всех от мерзкого яйца в пролом стены, где они снова очутились среди звезд, лопухов и развалин.
У огромной сырой руины, перед округлым проемом Левушка извлек из кармана пучок церковных свечек, роздал сотоварищам. Они запалили робкие огоньки. Прикрывая ладонями, ступили в разрушенный храм. Звякали под ногами осколки изразцов. Мерцали на стенах остатки старинных узоров – глазированные птицы, волшебные цветы, наивные львиные головы.
Из подземелья дул ветер, и Коробейникова слабо шатало вместе с огоньком свечи. Он хватался за стены, касаясь ладонью то глазированных львиных губ, то холодного птичьего клюва. Видел, что и спутники его, колеблемые хмелем, ступают среди собственных зыбких теней. Только Левушка, зная дорогу в склеп, шел бодро, как поводырь, бросая косую тень.
– Вот здесь, – сказал он, останавливаясь перед плоской плитой, освещая ее выбоины, каменные морщины, рубцы, – здесь покоится святой патриарх. Помолимся, братие, о его душе, пребывающей в райской обители, где он вкушает мед жизни вечной. Встанем, братие, на колени…
Он первый опустился на пыльную холодную землю, держа перед собой свечу, озарявшую его впалые щеки, мерцающие голубые глаза. Рядом грузно, мешком, опустился Верхоустинский, заслонив свечу непрозрачной литой бородой. Петруша Критский легко и счастливо поник, наклонив шею с маленькой беззащитной головкой. Князь для чего-то обмахнул штаны, с костяным стуком коснулся пола, отбрасывая длинную усатую тень. Помедлив, испытывая головокружение, последовал их примеру Коробейников, ощутив на пальцах горячую восковую капель.
– Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, пророков исполнение…
Коробейников сжимал мягкую свечу, представляя, как под тяжкой плитой лежит патриарх, каким его изображала парсуна, – в серебряных негнущихся ризах, с выпуклой грудью, с большим сильным носом, цыганской смоляной бородой, под которой сочно выступают малиновые плотоядные губы.
– Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепосте, Иисусе претихий, монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте…
Коробейников старался вызвать в себе сердечное чувство, разорвать изнурительные тенёты думающего, вспоминающего, воображающего разума, чтобы перенестись в неразумное созерцание, открыть сердце для теплого, благостного дуновения. Но его разум отвлекался на блеск настенных узоров, на странные тени, падающие от согбенных фигур, на множество разбегавшихся мыслей и образов. Он видел бабушку в ванной, ее худые мокрые плечи, ковшик над ее головой. Архитектора Шмелева, стоящего в мельканиях проектора, и черный зазубренный ротор вращался у него на лице.
– Иисусе премилосердный, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе прелестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение…
И вдруг в темном сыром подземелье, среди холодного праха и мертвенных истлевающих стен, ярко и сладостно Коробейников увидел Елену Солим, ее обольстительную шею, сильную красивую ногу под шелковой тканью, приоткрытую загорелую грудь с нежной ложбинкой. Ощутил сладостный запах ее духов, ее прелесть, женственность и доступность. Желал ее до умопомрачения, зная, что им суждено оказаться вместе. И потом, через несколько часов, когда уносила его в Москву утренняя электричка, и он сонно и обморочно сидел на желтой дощатой лавке, и мимо, занавешенные туманом, проносились березняки, болотца, спящие хмурые селения, он продолжал желать эту женщину. Целовал ее шею, грудь, приоткрытое округлое колено. Приближаясь к Москве, грешно и бесстыдно мечтал о ней, чувствуя ее приближение.
Часть вторая
Хлеб
Глава 14
Роман, к которому приступает художник, в ослабленном, искаженном виде воспроизводит Божественное творчество. Утомленный одиночеством Бог создает огромное зеркало со множеством своих отражений. Смотрит в стекло на свои бессчетные лики, на смену времен и царств, на кружение звезд и планет, покуда ни наскучит смотреться. Ударом молнии разбивает стекло, зеркало разлетается вдребезги. Разочарованный зрелищами звезд и морей, деревьев и трав, людей и животных, Господь опять возвращается в безвременный мрак. Лишенный бесконечных подобий, отказавшись от сотворенной Вселенной, истребляет тьму и свет, зло и добро, миры и пространства. Вновь замыкается в неразделенном своем одиночестве.
Так думал Коробейников, колеся по казахстанской степи. Выполнял задание редакции, собирая материал о целинной жатве. Подсаживался на трясущийся мостик красного самоходного комбайна. Перескакивал в грузовик, везущий на ток пшеницу. Лежал на прохладных грудах зерна, глядя на туманные звезды. Прозревал свой роман, помещая в него белесую казахстанскую степь, красные громады комбайнов, изнуренных жатвой людей. Отождествлял себя с угрюмым худым комбайнером, с железным ревущим комбайном, с полем белой пшеницы. Был творцом и творением, добывая знание о своих бесконечных возможностях, о своем неизбежном конце. Предчувствовал, как напишет в романе эту казахстанскую степную главу.
«Я самоходный комбайн СК-4, заводской номер 275201, с размером жатки 4,1 метра, с пропускной способностью четыре килограмма хлебной массы в секунду, на десятом году моего бытия, утомленный и старый, стою на краю хлебной нивы, быть может, последней в жизни, и испытываю, как всегда, страх от ее белизны и нетронутости, предчувствие боли, ее и своей, высших, безымянно-жестоких сил, столкнувших нас в истребительной, смертельной работе.
Стою, грохоча красными трясущимися бортами, приподняв над землей мелькающий ветряный вихрь. Нива, как литое стекло, ожидает удара, первого надкола и хруста, чтоб начать ломаться и брызгать, искрясь надломами, покрывая меня порезами. И мне идти, глотая колючую жаркую боль, превращая ее в прохладу намолоченных зерен, оставляя сзади пустое, огненное шелестение ветра. Зерно льется в меня, распирает и бродит, стараясь раздвинуть мои железные бедра. В усилье и муке раскрывает мне чрево, выходит туго и мягко, ложась под солнцем. Исчезает, оставляя на поле копну ломаной, беззвучно кричащей соломы, слабую, сладкую боль в опустевшем железном нутре.
Жилы мои напряглись. Боднул и истер в жидкий сок клочья травы у дороги. Дотянулся до первых колосьев. Нива, огромная и глазастая, как сошедшее с неба солнце, дышала, круглилась, и я, грохоча, терся о нее боками, железным своим языком.
Солнце в белом свечении. Чувствую его, как раскаленный в кузнице шкворень, который касается моей шеи, спины, и от меня пахнет паленой металлической шерстью. Рычаги и колеса ходят и чавкают, раздувая шелушащуюся, ржавую кожу. Я бережно остужаю ее движением воды. В стертое до блеска нутро залетело, бушует живое, ломающееся, рвущееся наружу вместе с перемолотым птичьим пухом, колючими семенами, кузнечиками. Раздувая зоб, в клекоте, просторно и плавно кружу по ниве, подчиняясь прикосновениям тяжелых угрюмых рук.
Это он, Михаил Коробейников. Чувствую его усталость и жажду. Откупорил флягу и пьет. Капли сорвались с его губ, мгновенно высохли, едва коснулись меня.
Мне скоро умереть и исчезнуть, а ему еще жить. И хочется знать, как будет ему без меня. Я несу такое знание о нем, такую повесть о нем, – драгоценный, укрытый от всех намолот. Когда меня рассекут и разрежут, разорвут и растащат крюками, из ржавого сора выпорхнут белоснежно его ночи и дни, незримая миру пшеница…»
Коробейников сидел в убогой придорожной гостинице над белым листком бумаги и совершал магическое перевоплощение. Расщепил свою личность надвое, и одну половину, как в теории переселения душ, поместил в судьбу комбайнера, того, с кем весь день кружил на пшеничной ниве. Другую половину вдохнул в металлический короб комбайна, продолжая рискованную работу по одушевлению машины. Художник, он часть своей человеческой сущности собирался отдать машине, наделив ее болью и верой, ощущением добра и зла. Риск заключался в том, сможет ли он вернуться обратно, расстаться с машиной и снова стать человеком. Или машина завладеет им навсегда, и он, потеряв свою душу, будет вечно вращаться среди угрюмых валов и колес.
«Помню Михаила в первое хлебное лето, которое исчезло потом среди бесконечных зим и метелей. Он был молод, его мускулы посылали в меня мягкую могучую силу, я переводил ее в радостный стрекот и гул. Слышал над собой его внезапную песню, сам был алый и свежий, носил на себе Михаила без устали, подставляя спину ветру, брызгающим блестящим дождям. Оба ждали, когда же оно случится, то что неслось на нас в ветряной степной карусели.
Однажды подкатил грузовик. Распахнули борта. В кузове был постелен ковер. Пели, плясали. Михаил кивал благодарно. Смотрел на ту, что топочет, выплескивая из ковра разноцветные брызги. Когда спустилась на землю, сказал:
– Дома небось все половики исплясала? Как зовут тебя?
Быстрым розовым пальцем черкнула мне на крыле: “Валентина”. Вспорхнула на мостик, и они сделали круг по ниве.