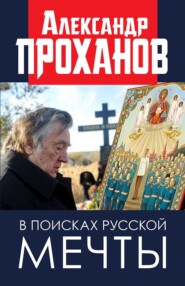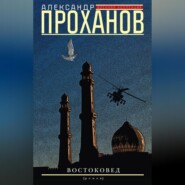По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Борьба, в которую вы, быть может, сами того не сознавая, уже вмешались, ставит вас перед выбором. Вам придется выбирать между партией и КГБ. Или вы вступите в партию, получив от нее высшее доверие, высшее знание, путь к пониманию самых закрытых явлений, а также путь к литературному успеху и славе, которой вы, обладатель таланта, достойны. Либо, если вы отвергнете партию, вам придется стать агентом КГБ…
Коробейников смотрел в выпуклые, воловьи глаза Стремжинского, в которых мерцали рубиновые струйки. Знал, что его искушают, ставят на кровлю храма, откуда открывается туманная московская даль с кремлевскими звездами, мостами над тусклой рекой, теснинами зданий, дымами заводов, застывшей каменной рябью, в которой окаменел ветер столетий. Все это предлагалось ему, сулило успех и славу, богатства и наслаждения, магическое сокровенное знание, приобщавшее к сонму жрецов. Но в этом огромном граде, пережившем царей и вождей, высилась поднебесная колокольня, опоясанная золотой, недоступной пониманию надписью, объяснявшей смысл бытия. Отвергнув соблазн, избегнув прельщение, через подвиг и жертву, когда-нибудь он облетит колокольню, прочтет золоченую надпись, постигнет смысл бытия.
– Я вам сказал сейчас достаточно много. Быть может, избыточно много для первой откровенной беседы. В заключение сообщаю, что принято решение показать вам закрытые оборонные объекты. Военную техносферу, где сконцентрированы высшие достижения социализма, поставленные на службу национальной обороны. Это огромная степень доверия, которая потребует от вас не только умения описать стратегический бомбардировщик или палубный авианосец, – здесь у меня нет никаких сомнений, – но и умения проникнуться до мозга костей «государственной идеей», как говорил философ Бердяев. Однако нужна гарантия, что вы окажетесь на высоте этой роли. Гарантией будет служить не секретный допуск, подготовленный органами КГБ, а ваше вступление в партию. На иной основе наше общение невозможно и будет выглядеть как нонсенс…
Стремжинский умолк, изложив Коробейникову тезисы их будущего взаимодействия, ограничив это взаимодействие рядом непременных условий. Коробейников, глядя на тяжелое, умное, в грубых складках лицо Стремжинского, на его выпуклые, фиолетовые глаза утомленного быка с кровавыми струйками в синеватых белках, вдруг в прозрении, с больным состраданием подумал: «Этот могущественный, виртуозный человек, изощренно управляющий сознанием миллионов людей, беззащитен и несвободен, встроен в огромную анонимную мегамашину как одна из ее деталей. И если деталь вдруг выйдет из строя, или перестанет служить машине, или машине потребуется иная деталь, его извлекут из огромного механизма и выбросят на свалку обломков. Поставят на его место другую, более совершенную деталь, быть может, деталь “Коробейников”».
– Вот так-то, мой друг, – улыбнулся Стремжинский, взглянув на электронное табло, где одиноко дрожала зеленая цифра.
– Красивое яблоко, – тихо произнес Коробейников, кивнув на плод с холодным глянцевитым румянцем.
– Хотите? – встрепенулся Стремжинский.
Хрустя ножом, рассек яблоко. Протянул половину Коробейникову. Совершив «обряд преломления», они молча вкушали сладчайшее яблоко.
Глава 16
Наступил долгожданный, головокружительный день, когда из Австралии в Москву прилетала Тася, для Коробейникова – тетя Тася, чудом обнаруженная среди огромного клубящегося потустороннего мира, куда канула и бесследно исчезла половина рода. Корабли, переполненные обезумевшей толпой, остатки разбитых армий, вереницы беженцев и погорельцев – все бежало, уплывало, спасалось за границей, преследуемое конниками, стреляющими бронепоездами, строчащими пулеметами и тачанками. Тася, как печально, вполголоса говорили о ней, уехала из советской России позднее, на стажировку в английский колледж. Да так и осталась на другой половине земли, заслоненная дымом войны, лязгнувшим железным занавесом, гулом и грохотом, разломившим мир на две несопоставимые истории, на два несоединимых времени, в каждом из которых, словно чаинки в двух разных чашках, кружились судьбы разделенных семейств. Однако чудо случилось. Через четыре десятка лет Тася возвращалась в семью, от которой осталась ее родная сестра Вера, двоюродная сестра Таня – мать Коробейникова, бабушка Коробейникова, приходившаяся Тасе тетушкой, и много могил, известных и безвестных, где упокоились некогда сильные, добродушные и счастливые люди, что так любили очаровательную, смешливую девушку с белым бантом, в милой кокетливой позе сидящую на качелях. Когда мать рассматривала этот снимок в альбоме, ее глаза начинали тихо светиться и наполнялись слезами.
С утра в квартиру в Тихвинском переулке пришла тетя Вера, строгая, чуть ходульная, с манерами старой девы, коей она и являлась, проведя молодые годы сначала в уральском лагере на лесоповале, а потом на долгом поселении. Прямая, с плоской спиной и грудью, большим носом и седыми, расчесанными на прямой пробор волосами, она облачилась в старомодное долгополое платье, придававшее ей сходство с пожилой классной дамой. Ее волнение в связи с предстоящей встречей выражалось в том, что она застывала посреди комнаты и по многу раз бессмысленно протирала полотенцем тарелку из фамильного сервиза, забывая поставить ее на стол.
Мать, возобладав над болезнью, тревожно и вдохновенно светилась, став молодой и красивой в своем торжественном темно-малиновом наряде, который так любил Коробейников. Занималась изготовлением домашней, «молоканской» лапши, раскатывая скалкой тонкое ароматное тесто, посыпала его белой мукой, рассекая живой, нежный пласт на тонкие лепестки и обрезки. «Молоканская лапша» должна была породить у Таси воспоминания о многолюдных семейных обедах в их прекрасном тифлисском доме и воскресить дух исчезнувшей, поредевшей семьи.
Бабушка, торжественная, в темном, пахнущем нафталином платье, сидела в кресле с величавым лицом прародительницы, готовясь к ниспосланному Богом свиданию, и ее губы беззвучно шевелились, словно она читала молитву. Мать подходила к ней, испрашивала тот или иной совет, касавшийся изготовления лапши, толстотелых пирогов с капустой и яблоками, а также клюквенного мусса, именовавшегося в семье на немецкий манер – «Химмельшпайзе». Наклонялась к бабушке, расправляла ее белый кружевной воротник, купленный когда-то в Париже.
– Ну что, пора, – мать в который раз посмотрела на часы, обращаясь к Коробейникову, – поезжай в аэропорт, а то, чего доброго, опоздаешь.
По дороге, сидя за рулем Строптивой Мариетты, он пребывал в сладостном предвкушении встречи, один из немногих, кто продлил на земле некогда плодовитый род. Поколение бездетных дедов и бабок поредело в тюрьмах и ссылках, в изгнании и в изнеможении невыносимых лет. В следующем звене род окончательно обмелел и выродился – не вернулся с войны, сгинул в лазаретах, в женской своей половине не обзавелся женихами, чьи молодые кости умостили поля сражений от Волги до Одера. В его, Коробейникова, жизни род сузился до робкого ручейка, струящегося в хрупком русле под бережной опекой мамы и бабушки. И только рождение двух его детей, его деятельная чадолюбивая жена Валентина вселяли надежду, что род не иссякнет. Слившись с другим обмелевшим родом, начнет прибывать, наполняться жизнью.
Он ехал в аэропорт Шереметьево, вспоминая любимых стариков, тех, которых застал, и тех, кого знал по старинным фотографиям в альбоме. И эти воспоминания были связаны с несомненным добром и светом, были из области абсолютной любви, в которой очищались и спасались его душа и память. Таинственная австралийская гостья уже была им любима, причислена к сонму родовых святых, в кого превратила семейная религия исчезнувших пращуров.
Он оставил «москвич» на стоянке и сквозь окно аэропорта смотрел на просторное зеленое поле с каменным, напоминавшим цветок сооружением, куда причаливали утомленные заморскими перелетами лайнеры, своими силуэтами, размерами, цветными клеймами отличные от знакомых советских марок. Вслушивался в мегафонные объявления на русском и английском, ожидал прибытия рейса из Сиднея. И когда наконец над полем снизилась большая, похожая на летающую корову машина с отвислым брюхом и тяжелыми, словно вымя, двигателями, он угадал самолет из Австралии и представил, как устало сидит в кресле пожилая женщина, повторявшая тетю Веру чертами фамильного сходства.
Он толкался в толпе встречающих, отделенный перегородками, стенками, поручнями от далеких, клубящихся пассажиров, над которыми совершалась продолжительная и мучительная процедура. Сначала их ярко освещали и долго, недоверчиво рассматривали из-под колышков жесткие глаза пограничников, перелистывавших паспорта с чужими гербами, доводя встревоженных визитеров почти до обморока. Затем они бестолково вылавливали на конвейере свои переполненные тюки и огромные кожаные чемоданы с колесиками и волокли их к таможенным пунктам, где подозрительные чиновники в форме рылись в дамском белье, вспарывали упаковку «кассетников», вываливали на пластмассовые столы ворохи диковинных заморских изделий, пугая хозяев резкими, на плохом английском вопросами. Их подвергали дезинфекции, карантину, термической и химической обработкам, помещая то в огненную печь, то в морозильник, уничтожая принесенные вирусы, тлетворные вещества, предохраняя от заражения здоровую, не подверженную заболеваниям землю, куда те явились. По одному, стерилизованных, сквозь узкие турникеты, их выпускали наконец в зал аэропорта, соединяя с огромными пространствами загадочной, между трех океанов, страны, где им никогда не достичь тех целей, ради которых они явились.
Коробейников, поднимаясь на цыпочки, видел, как медленно колеблется среди хромированных ограничителей вереница пассажиров. Среди заморских пиджаков, шляп и жакетов, среди лысин и париков углядел высокую, с мясистым лицом даму в голубом, в которой, несмотря на удаление, угадал ту, которую поджидал с нетерпением. Посланец оскудевшего рода, он принимал в родовые объятия неведомую, но любимую, возвратившуюся из долгих скитаний беглянку.
Когда дама, страшно взволнованная и огорченная, волоча огромную суму и трясущийся на колесиках чемодан, остановилась среди толкающих ее людей, Коробейников шагнул и, стараясь быть радушным и легкомысленным, произнес:
– Тетя Тася… Это я, Михаил Коробейников… С прибытием…
Увидел, как недоверчиво дрогнуло, радостно озарилось, благодарно осветилось ее мясистое немолодое лицо, окруженное седыми, с голубизной, волосами.
– Миша?.. Танин сын?.. Так вот ты какой!..
Они обнялись. Целуя пухлую теплую щеку, Коробейников уловил сложные запахи пудры, туалетной воды, медицинских специй, исходящие от новообретенной родственницы. То были запахи иных континентов, иных городов и пространств, из которых явилась тетя Тася. Она была одета в сине-голубую гамму, с бирюзовым платком на шее, голубоглазая, с фарфоровыми голубоватыми зубами, что создавало тщательно подобранный, сберегаемый стиль, в котором она замыслила себя, возвращаясь на русскую родину.
– Позвольте ваши вещи… Тут рядом машина.
Коробейников принял поклажу, видя, как все еще недоверчива, испугана путешественница. Как со страхом покосилась на милиционера. Как слабо шарахнулась от проходящего пограничника, словно боялась, что ее задержат, продолжат опрос и, не дай бог, арестуют в этой стране непрерывных насилий и утеснений. И только в автомобиле, сидя рядом с Коробейниковым, проезжая ажурный мост через солнечный канал, пролетая мимо нарядного Речного вокзала, оглядываясь на огромные помпезные здания у Сокола, она понемногу успокоилась. Спрашивала Коробейникова:
– А это что?.. Это что?.. – смотрела на неузнаваемый, построенный без нее город, куда рискнула явиться и который переливался стеклом и солнцем в ее голубых изумленных глазах.
Они приехали на Тихвинский, поднялись на четвертый этаж. Искоса глядя на взволнованное, испуганное, ожидавшее невероятной встречи лицо, Коробейников позвонил. Услышал быстрые, мгновенно откликнувшиеся шаги. Дверь отворилась, и возникло ощущение бесшумного взрыва, когда под огромным давлением соединяются два разделенных перемычкой объема. Тася и Вера оказались лицом к лицу, как два каменных ампирных льва на воротах. Встретились и окаменели две родные, порознь прожитые жизни, одна из которых покинула Вселенную, улетела в иные миры, а теперь вернулась, и обе были превращены в изваяния. Не умели кинуться друг другу на шею, зацеловать, облиться слезами, похожие одна на другую, с одинаковыми носами и подбородками, между которыми бесшумно вскипали два разных времени, не в силах соединиться в единое целое. Создавали непреодолимый барьер, мешавший губам слиться в поцелуе.
– Тася, боже мой!.. – из-за спины тети Веры выглядывала мать, бессильно и немощно пытаясь сломать эту непроницаемую преграду, размягчить жесткий омертвелый рубец в том месте, где произошла ампутация, преодолеть отторжение, мешавшее срастить отсеченную плоть.
Так неловко, путаясь и пугаясь, они вошли в комнату, где в креслице поджидала их бабушка. Увидела Тасю, с истошным воплем, словно ее толкнула больная пружина: «Тася, девочка моя!» – подскочила в кресле и тут же рухнула бессильно обратно, потеряв сознание. Бледная, бездыханная, с большим коричневым зобом на открытой шее, вытянула из-под платья тощие, обутые в шлепанцы ноги. И этот страстный, больной, почти предсмертный крик разбудил всех. Оживил каменные львиные лица. Размягчил до розовой кровоточащей плоти огрубелые швы. Бросил их всех сначала к бабушке, которая приходила в себя, слабо шевелила губами: «Девочка моя дорогая…» – и потом друг к другу. Все три сестры обнимались, целовались и плакали, склоняя седые головы. В комнате пахло валерианой и заморскими духами. Коробейников, взволнованный, с увлажненными глазами, подносил всем по очереди стакан с водой. Сбиваясь со счета, опрокидывал целебные капли.
Они сидели в маленькой, ставшей вдруг тесной комнате, наполняя ее своими всхлипами, улыбками, глубокими вздохами. Их первое соприкосновение кончилось больным ожогом, и теперь они боялись обращаться друг к другу. Чего-то ждали, быть может, того, чтобы расточилась огромная, накопленная в разлуке разница переживаний, страхов, потерь, сделавшая их, когда-то дорогих, ненаглядных, отчужденными и неловкими, не умеющими произнести сокровенного слова, через которое они бы снова узнали и полюбили друг друга. Тася извлекла носовой платок, осторожно утирала голубые, с покрасневшими веками глаза. Коробейников заметил, что у платка была аккуратно вышита синяя каемка.
– Господи, ведь все эти вещи я видела когда-то в нашем тифлисском доме!.. Неужели они сохранились?
Тася всматривалась в кровати, стулья и тумбочки из ореха, вишни и дуба – остатки великолепного убранства из исчезнувшего благодатного дома, где все дышало обилием, благородным укладом, радушием многолюдной жизнелюбивой семьи.
– Этот буфет, его чудесные нежные створки! – Она поднялась, приблизилась к буфету, любовно и пугливо отворила легкие стеклянные створки, которые слабо и чудесно прозвенели, словно узнали ее, откликнулись на ее прикосновения мелодичными переливами. – Я помню этот звон! – Тася обернулась к сестрам своим помолодевшим восхищенным лицом. – Когда баба Груня открывала его и доставала посуду, это означало, что к обеду собирается вся семья, на стол ляжет бело-синяя тяжелая скатерть, на ней засверкает наш фамильный фарфор и хрусталь. Сколько раз в эти годы я слышала во сне этот перезвон. Просыпалась, молилась о вас, не зная, живы вы или нет. Умоляла Господа, чтобы он сберег вас среди невзгод!
Боже мой, это наш любимый «волшебный фонарь»! – Тася подняла лицо к потолку, где на бронзовых зеленых цепях висел светильник в свинцовой оплетке, собранный из разноцветных стекол. – Вера, ведь он висел над роялем, ты помнишь? Мы всегда, даже днем, зажигали его, играя в две руки полонезы Шопена. Нам казалось, что светильник начинает переливаться, наполняется то золотым, то зеленым, то синим. Мой поклонник, немец-студент фон Штаубе, говорил, что, когда мы играем, в светильнике начинает звучать «музыка сфер».
Она поискала на стене выключатель. Зажгла светильник и стояла под ним восхищенно, воздев к нему руки, словно молилась на волшебное, загоревшееся над ее седой головой светило, прислушиваясь к таинственным, витавшим под потолком звучаниям.
– Это чудо какое-то! А эта тумбочка, она стояла в гостиной! Как-то вечером, когда шел дождь, было сумрачно, все попрятались по комнатам. Наш огромный дом затих, и мне стало так печально и одиноко, что я прокралась в гостиную, сжалась в комочек у тумбочки и думала о том, как умру. Было так горько знать, что навсегда исчезну и меня никогда не будет. Отыскала подушечку со швейными иголками и острием нацарапала на тумбочке свое имя, словно желая увековечить. Боже мой, да вот же оно!
Тася тронула большой, пухлой, перевитой венами рукой ореховое дерево тумбочки, и от ее прикосновения проступили тонкие буквы. Усталая старческая рука утончилась, засветилось хрупкое девичье запястье, и в тонких пальчиках драгоценно блеснула игла.
Коробейников с благоговением наблюдал обряд поклонения фетишам, каждый из которых отзывался звуком, свечением, едва уловимым колебанием, признавая в Тасе ее подлинность, достоверность, сообщая другим, присутствующим при обряде, что эта престарелая дама в иноземных нарядах, явившаяся из иного уклада и времени, является не мнимой, а истинной родственницей, связана с остальными священными узами рода, поклоняется, как и они, деревянным идолам и богам из ореха и красного дерева, молится священным сосудам и вазам, светильниками и лампадам.
– Зеркало, милое, дорогое! – Она подошла к подзеркальнику, над которым в старой высокой раме сияло тусклое серебряное стекло. Приблизила одутловатое лицо, в складках, припорошенное мертвенной пудрой, окруженное ненатуральной, голубоватой сединой. – Как я любила в него смотреться! Расчесывать волосы костяным гребнем! Прикреплять к груди белый бант! Перед тем как идти на свидание к фон Штаубе, целый час проводила перед этим зеркалом, примеряя поочередно сто разных платьев! Как я люблю тебя, милое зеркало!
Она приблизила губы к стеклянной грани, где застыла холодная сочная радуга, и поцеловала стекло. Затуманенное ее дыханием, зеркало вдруг отразило прелестный девичий лик с сияющими очами, кокетливой милой улыбкой, белый шелковый бант на невинной робкой груди.
Все зачарованно смотрели на Тасю, любя, сострадая, принимая ее в свой поределый круг, куда она стремилась, пересекая океаны и континенты, преодолевая необозримое пространство порознь прожитых лет.
– Что же я сижу! – спохватилась она. – Привезла вам подарки!
Она кинулась к чемодану, величественному, кожаному, с распухшими боками, на котором медные застежки, красивые замки, крохотные колесики свидетельствовали о добротном, продуманном, устоявшемся укладе. Прохрустела запорами, откинула крышку, и оттуда выдавилось и распустилось нечто пушистое, мягкое, золотисто-горчичного цвета.
– Тетя Настенька, я подумала, что тебе среди наших русских холодных зим будет очень кстати эта теплая кофта. Настоящая австралийская овечья шерсть, отлично выделанная!
Она выхватила из чемодана легкое, почти невесомое изделие. Держа за рукава, опустила кофту на колени бабушки, и та благодарно поймала и поцеловала ей руку. Светилась маленькими лучистыми любящими глазами:
– Какая ты чуткая, душевная… Тасенька моя дорогая!..
А та, вдохновленная, увлекаясь ролью дарительницы, извлекла из чемодана прекрасную плотную шаль с пушистой бахромой. Раскрыла ее, распространяя по комнате вкусный душистый запах. Ловко и изящно накинула шаль на плечи тети Веры, одновременно приобняв ее, прижавшись к ее худому плечу. Тетя Вера зарумянилась от удовольствия, женским движением запахнулась в шаль. Повернулась к зеркалу, приподняв плечо. Кокетливо, словно девушка, заиграла глазами, осмотрев себя.
– Спасибо. Это то, что я так люблю. Ношу старенькую, оставшуюся от мамы шаль. Вот бы она была рада такому подарку! – Она поцеловала сестру, и в этом поцелуе была благодарность, а также память об их ушедшей матери.
– Танечка, ты всегда любила улечься с книгой на нашей тахте и накрыться полосатым, цветастым покрывалом, которое дядя Коля купил у турчанки. Вот тебе мой подарок, чтобы никакие сквозняки тебя не пробрали! – Она вынула сложенное многократно смугло-коричневое, ворсистое покрывало. Развернула его и широким взмахом набросила на кровать, скрыв под пушистыми волнами все ложе с гнутыми овальными спинками. Мать, тихо ахнув, пробовала ткань на ощупь, подносила к лицу, целовала, благодарно и счастливо взирая на сестру.