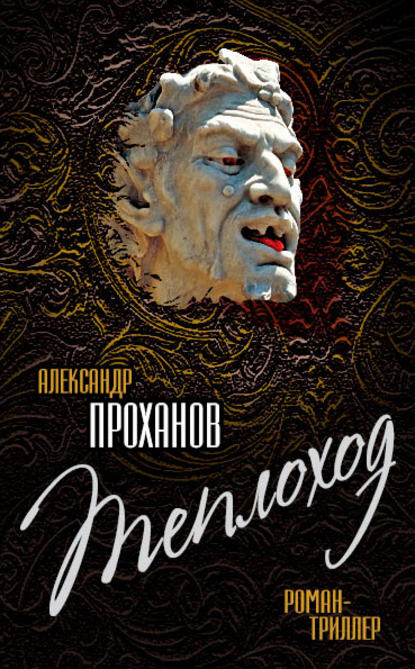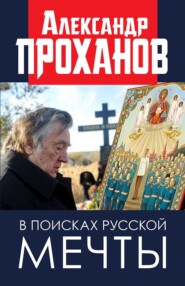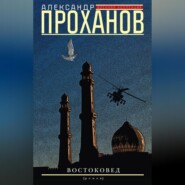По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Теплоход
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Существа в балахонах поселились в двухместных каютах на нижней палубе, под которой располагался двигатель. Служители заперли их в помещениях, а ключи унесли с собой. Длинноногих красавиц расселили по всему теплоходу, и они, едва оказавшись в каютах, принялись переодеваться, поправлять маникюр, делать массаж запястий и щиколоток, глотать питательные, не прибавлявшие веса таблетки.
Словозайцев, войдя в каюту, обнаружил, что в ней уже находятся несколько манекенщиц. Их искусственные безукоризненные зубы, улыбающиеся лисьи лица, протянутые к нему длинные коготки не предвещали ничего хорошего.
– Зи-зи, Ки-ки, То-то… Ну не надо, не сейчас… Я еще не переоделся, – жалобно умолял он, отступая от двери. Но красавицы только усмехались, поблескивая перламутровыми когтями, цокая отточенными каблуками, беспощадно сияя прекрасными глазами. – Ли-ли, Фи-Фи… Я прошу…
Красавицы кинулись на него, бросили на кровать, стали щекотать. Словозайцев извивался, хохотал, умолял оставить его:
– Фру-Фру, Мо-мо, я изнемогаю…
Проказницы щекотали его под мышками, теребили пятки, забирались тонкими щупальцами в пах, лезли в уши, под язык. Словозайцев орал, хохотал, обливался слезами, корчился. Обессиливший, с выпученными глазами, вываленным языком, в коме, остался лежать на кровати. Манекенщицы по-матерински заботливо раздели его, накрыли одеялом, поправили подушку. Оставили лежать, видя, как дергается под одеялом беспомощная пятка.
Губернатор Русак, напротив, сам был исполнителем увлекательной затеи. В просторной каюте к кровати был прикован белесый бультерьер в наморднике. Русак в гетрах, в безрукавке дрессировщика держал ременный хлыст. Наносил по собаке длинные разящие удары. Собака взвизгивала от боли. Отпрыгивала. Кидалась на мучителя. Рвалась на цепи. Снова отскакивала, пораженная ударом бича.
– Не любишь!.. – приговаривал Русак, награждая бультерьера очередным ударом хлыста. – Не любишь!..
Глаза собаки набрякли кровью. Намордник наполнился розовой пеной. На мускулистых, играющих ненавистью боках вздувались рубцы. Русак все бил и бил, пока, дрожа коленями, не упал на пол, изнемогая от сладострастной муки.
Прикатил тяжеловесный «форд» с американским флажком. Два морских пехотинца растворили дверцу, выпуская посла США Александра Киршбоу. Доброжелательный и вальяжный, улыбаясь, он посмотрел на теплоход, как взрослые люди смотрят на детскую дорогую игрушку.
– Ер эксесенц!.. – козырнул ему у трапа Яким.
– Где-то я вас видел, не правда ли? – посол пожал капитану руку. – Вы не служили в «Нэйви энэлайзес»?
– Никак нет, я возглавляю организацию «Нейшн».
– Да, конечно. Ваших ветеранов хоронят на Арлингтонском кладбище.
С этими словами он принял ключ с костяной головкой поэта. Красивая мускулистая девушка в белой короткой юбке с серебряным кантом, по виду толкательница ядра, подхватила его баул и проводила в каюту. По коридору посол шагал ленивой походкой скучающего интеллектуала. Но, едва войдя в номер, обернулся и с необычайным проворством залез барышне в трусы. Та не повела бровью. Улыбалась, держа саквояж, пока Киршбоу совершал экскурсию по кустистым дебрям. Когда он удовлетворил пытливость путешественника и вернул руку в пространство каюты, девушка поставила баул и спросила:
– Что-нибудь еще, господин посол?
– Немного позже, – ответил Киршбоу и подарил русской красавице стеклянные бусы, как когда-то колонисты одаривали диких туземцев.
Голубой «фольксваген» доставил к теплоходу председателя Союза предпринимателей и промышленников Добровольского. Жовиальный старик с горбатым склеротическим носом и красными веками улыбался во все стороны искусственными зубами. Приглаживая медного цвета парик, он направился к трапу расслабленной семенящей походкой, время от времени смыкая пятки и разводя носки, что делало его похожим на Чарли Чаплина. Всякий, кто знаком с масонскими символами, без труда мог определить в нем члена ложи, прибегавшего к особым приемам, чтобы его в толпе опознали другие братья. Пока он двигался к трапу шажками пингвина, ему откликнулось несколько находящихся на пирсе соратников. Мусорщик в оранжевой робе, подбиравший на асфальте бумажки, сделал несколько шажков, имитируя пингвина. Охранник, скрывавшийся в кустах, вышел из тени на свет фонаря, скрестив средний и указательный пальцы и послав приветствие магистру. Милицейский полковник с рацией показал ладонь, на которой светящейся краской был начертан мастерок – орудие вольных каменщиков.
– Не могли бы вы прислать мне в номер лед? – спросил Добровольский у капитана Якима, принимая ключ.
– Лед уже доставлен, – любезно ответил Яким.
– Спасибо, мой мальчик, – удовлетворенно заметил Добровольский, чувствуя себя окруженным тайными братьями, лишь на мгновение обнаружившими свое присутствие.
В номере на столе стояло ведерко с мелко нарубленным льдом. Добровольский снял парик, который являл собой резиновую оболочку, усеянную рыжими синтетическими волосами. Обнажился бугристый, голубоватый череп с больной синей веной. Над раковиной он вылил из парика воду, как выливают ее из грелки. Натолкал в оболочку мелко нарубленный лед. С наслаждением нацепил парик, который действовал, как рефрижератор, остужая пылающий мозг, перегретый от постоянного крючкотворства и каверз. То же самое проделал с бандажом, окружавшим пах. Промежности нестерпимо горели, ибо недавно в секретной биолаборатории ему, вместо истлевших чресл, пересадили семенники молодого орангутанга. Семенники прижились, но иногда начиналось изнурительное жжение, хотелось в джунгли Нигерии, где обитало множество привлекательных самок.
Появился «лендровер», украшенный странным плюмажем, испещренный кабалистическими звездами, изображениями ящериц и гадюк. В нем прибыла известная гадалка и чаровница Толстова-Кац. Из автомобиля вытекла огромная рыхлая старуха, нарумяненная и набеленная, в розовом тюрбане, с живой совой на плече. Ее ноги распухли от «слоновой болезни», телеса колыхались и хлюпали. Она напоминала огромный перезрелый гриб, пропитанный влагой, с почернелой губкой, в которой завелись мокрицы и сороконожки. Поддерживая себя за бока, понесла свое тело к теплоходу, и казалось, вот-вот от нее отвалится рыхлый скользкий ломоть, и начнут разбегаться потревоженные обитатели водянистого гриба.
Тяжело взгромоздилась на трап. Мельком взглянула на капитана Якима:
– Когда устанешь убивать, станешь садовником. Будешь сажать на могилах хризантемы.
Едва протискиваясь в коридоре, добралась до каюты. Пересадила сову с плеча на вешалку. Растворила баул и выложила магическую пирамиду, колоду карт, сушеную саламандру, сморщенную, с извлеченным черепом, головку эскимоса, кипу длинных булавок, свечу, китайский веер, а также том стихов Иосифа Бродского (издательство «Независимая газета», 2001 год). Проделав эту работу, собралась было прилечь, но в ней что-то заурчало, забурлило. Ахнув, она заторопилась в туалет, где накрыла своими пышными юбками лазурный унитаз, как накрывает чайник лоскутная баба. Из нее тотчас хлынуло, полилось, неудержимо, как водопад, как проливной дождь, что неутомимо хлюпает за окном, наполняя влагой яблоневый сад. Бульканье услышал вахтенный офицер, думая, что преждевременно заработал водяной винт. Но за кормой была гладь, на которой нежно трепетало отражение оранжевого фонаря.
На подержанном «ниссане» прикатил известный телеоператор Шмульрихтер, тот, что когда-то поразил общественность кадрами голого совокупляющегося прокурора. Маэстро был одет, как турок на старинной литографии – бирюзовые шаровары, малиновая безрукавка, на вьющихся чернильных волосах белая феска с кисточкой. Длинный птичий нос вертелся во все стороны. Вслед за носом вращались пытливые всевидящие глаза – один красный, другой фиолетовый.
– Один для ночных съемок в инфракрасном спектре, – пояснял Шмульрихтер, – другой для дневных, в ультрафиолете.
Он то и дело облизывался, высовывая длинный язык, и сглатывал слюну, как собака, предвкушающая вкусную косточку. Прошествовал к трапу, энергично переставляя ноги в загнутых чувяках.
– Изволите опаздывать, – сделал ему мягкий выговор капитан Яким.
– Изволю, изволю, – согласился оператор. – Обгонял Патриарха. Небось, тоже сюда намылился, «Ноев ковчег» освящать.
Попав в свою каюту, Шмульрихтер сразу направился к стене, что была задрапирована тканью. Отдернул занавес, и открылся вмонтированный в стену полиэкран. В большинстве кают были установлены скрытые камеры, которые вели непрерывную съемку. Эта съемка должна была лечь в основу телевизионного фильма, который заранее купил экстравагантный канал ТНТ, специализирующийся на случках в прямом эфире.
– Тэкс, тэкс, позвольте взглянуть. – Шмульрихтер стал нажимать тумблеры, включая поочередно мониторы.
В каюте новобрачных обессилевший Франц Малютка опрокинулся навзничь, а неистовая Луиза Кипчак, словно обнаженная валькирия, сидела у него на лице и подпрыгивала. Губернатор Русак продолжал истязать собаку, приговаривая «Не любишь!», и у терзаемого животного из намордника падала пена. Посол Киршбоу достал звездно-полосатый американский флаг и учился его складывать, как складывают на гробах убитых в Ираке солдат. Куприянов позировал перед зеркалом, примеряя двенадцатый галстук, при этом был без брюк, прятал глубоко между ног гениталии, пытаясь изображать из себя женщину. Прокурор Грустинов возлежал на кровати, играя мобильным телефоном, пробуя своим небольшим, натренированным отростком набрать Генеральную прокуратуру, но попадал почему-то на квартиру проститутки.
– Конечно, я не Антониони, но все же Шмульрихтер, – засмеялся оператор, заморгал разноцветными глазами и облизнулся.
Из липовой аллеи у освещенной пристани появилась фигура, маленькая и нелепая. Когда она приблизилась к фонарю, можно было увидеть, что это горбун. Лицо его, болезненно-бледное, с запавшими щеками, тонкой переносицей, широко раскрытыми серыми глазами, было красиво и измучено, выражало кроткую мольбу и сострадание. Его появление среди роскошных автомобилей, рослых охранников и чванливых гостей было странным. Когда он взошел на трап, капитан Яким недоверчиво его оглядел:
– А вы, простите, кем будете? Присутствуете в списке гостей? – он стал просматривать листки, где значились вельможные имена, звания и титулы. – Должно быть, вы из группы Словозайцева? Показ экстремальной моды? – Яким чуть насмешливо, сверху вниз, заглянул на его горб.
– Да, да, Словозайцев, – смущенно ответил горбун, получая ключ, расточаясь в глубине коридора.
Есаул все это время из-за плотной шторки наблюдал прибытие гостей. Он нервничал, его раздражали помпезные мужчины и женщины, явившиеся на корабль праздновать – не столько счастливую свадьбу, сколько восхождение Куприянова, его неизбежную победу. Многие из гостей еще недавно боготворили Есаула, искали встречи, пользовались благодеяниями, славословили на всех углах. Но в миг, когда изменилась погода, и подули студеные ветры, вероломно от него отвернулись. Эта ветреная, эфемерная публика, изнеженная и развратная, именовалась «элитой», была правящим классом, разорявшим страну. Вызывала у Есаула глубинную ненависть, потаенное презрение, чуткую осторожность. Ибо из вороха драгоценных шелков, блеска бриллиантов, легкомысленного и веселого лепета в любой миг могла протянуться рука с пистолетом.
Есаул смотрел, как подкатывают автомобили и на борт теплохода следует нескончаемая вереница. Прибывали именитые актеры, забавные смехачи, расфранченные писатели, экзотические стилисты. Уже прошествовала черная шляпа, принадлежащая долговязому фату, вылитому артисту Боярскому. На чьем-то лице проплыли хохочущие усы Михалкова. На чьей-то голове проблистала сальная лысинка Жванецкого. Кинозвезды и телеведущие, воротилы шоу-бизнеса и пиар-агентств – все они были похожи на разноцветную легкую пену, шелестящую над кружкой пива. Рождали у Есаула отторжение, как прекрасный ядовитый цветок, насыщенный тлетворными соками.
Из-за темных деревьев взошла луна, вначале оранжевая и туманная, затем все белее и ярче, наливаясь млечным блеском, зеркальным свечением. Огромно и чисто пылала над теплоходом, отражаясь в заливе.
По золотой бахроме, пересекая ее тенями, скользили лодки, яхты, буксиры, вытягивая по воде дрожащие золотые нити.
Есаул встрепенулся, увидев, как подкатывает скромный, с зачехленными окнами, микроавтобус. Сразу несколько членов экипажа, мелькая под фонарями белыми сюртуками, кинулись к автобусу, отворяя задние двери. Через минуту от автобуса отделились носилки, подхваченные четырьмя молодцами. На носилках высилась кибитка без окон, в каких по улицам средневекового города странствовали прекрасные дамы, отправляясь на тайные порочные встречи. Бегом, в сопровождении нескольких членов команды, кибитку внесли на трап. Направили в самый отдаленный отсек корабля, в глухую, за железной дверью, каюту, перед которой была выставлена стража. Есаул впервые облегченно вздохнул и заметил, как прекрасна луна.
Оставались последние минуты перед отплытием, когда на пристань выскользнул торжественный кортеж – мотоциклы, лиловые вспышки, шумные вихри машин. То прибыли Святейший Патриарх Пий 45-й и мэр Москвы Юрий Долгоухий. В тяжелых золотых ризах, окутанный сладкими фимиамами, запалив высокие свечи, из автомобилей выплыл клир, начиная богослужение. Патриарх, поддерживаемый под локти, белобородый и немощный, в золотой митре, воздел руки, облаченные в золотые рукава, напоминая птицу, тщетно желавшую взлететь. Знакомый пастве дребезжащий, блеющий голос затянул псалом, обращая его к ковчегу, который, казалось, очнулся, ожил, одухотворился. На палубы из кают выходили набожные пассажиры, держа в руках запаленные свечи. Мэр Юрий Долгоухий стянул замшевое кепи, и его смуглые кудри рассыпались за спиной, придавая сходство с благородным рыцарем.
– Отправляясь в странствие по водам и потокам днесь, являя народу Израиля рекохом благолепие и стяжание алкающих, снизошел чадам градов сих и поселений, в назидание братии и восшедши, аки дщерь низподаху, благословляю ковчег сей и немощных человеколюбце, аще на поприще благоволения и произрастание злаков и кормящих во утробу сию… – восклицал Пий 45-й, жалобно и слезно взирая на ковчег, где ему вторили нестройные голоса верующих и молящихся.
Свечи теплились золотыми огнями. Луиза Кипчак набожно крестилась, капая чистым воском на свою босую, чуть прикрытую бальным платьем ногу с сиреневым педикюром.
– Сочетаемые браком нераздельным, яко светила негасимые царствия опричь, благолепие чертогу и плодов земных, яко виноградников и во оскудение благодати, опричь ниспадаху и отрекоху, преумножая лета и во избавление и продление роду сего, всякого писанного и неписанного, в благодарение и снискание единородных сих… – голосом, дрожащим, как хрусталь во время землетрясения, возглашал Патриарх.
Корабль, как огромный аналой, был дивен и великолепен под полной луной. Куприянов, в галстуке на голом теле, крестился левой рукой, кладя знамение снизу вверх, слева направо, как учил его выкрест-священник, окормлявший кабинет министров.
– От града первопрестольной Москвы, чадам и святотатцам, опричь немощных и увечных, донельзя воинов и благонравных, дабы по водам и потокам в достижение столиц северных и богобоязнен, донельзя и сподвижникам сих человеколюбце… – возглашал Патриарх.
Служки поднесли Патриарху чашу святой воды и кропило. Тот немощной рукой посылал сверкающие под фонарями брызги в сторону корабля, благословляя ковчег и всех странствующих на нем. Оператор Шмульрихтер, приклеив свечку к поручню палубы, ловил в окуляр патриаршьи ризы, облизываясь красным собачьим языком.