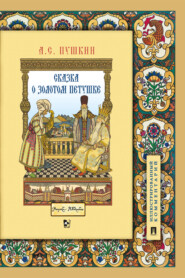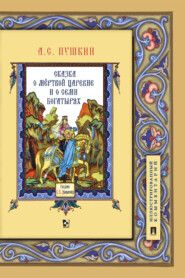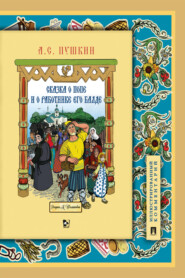По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Борис Годунов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что ж, сыграем по правилам самого Виссариона Григорьевича. Поработаем на его поле.
Главная ошибка, а вернее, подтасовка Белинского состоит в том, что до Петра I в России якобы не развивается индивидуальное начало, совершенно задавленное началом родовым. Виссарион Григорьевич не видит (не хочет видеть) никаких «признаков личного», ибо, по его собственным словам, даже ожесточенная борьба за власть не ознаменована внесением участников ее «новой идеи… нового принципа… нового элемента». Конечно же, родовое начало получило в России мощное развитие: до Петра I оно не господствовало, поскольку основу его, местничество, отменил еще царь Федор Алексеевич, но вообще отрицать его силу невозможно. Однако… сказать, что оно вчистую задушило начало личное, уничтожало всякую возможность персоне, даже и представляющий какой-либо могущественный род, высказать собственную программу, собственную идею относительно устройства русского социума, это даже не преувеличение, это слепота. Притом слепота, думается, намеренная.
Надо очень постараться, чтобы не заметить князя Андрея Курбского, просвещенного аристократа, сделавшегося перебежчиком. Его предательство подчинено идее особых прав и привилегий родовой знати, нарушенных царем, что дало изменнику почву для самооправдания и даже прокламирования особой правды «великих людей во Израиле».
Трудно пойти мимо Заруцкого с его маниакальной идеей казачьей вольницы, разбившейся о державное чувство русского народа на финальном этапе Смуты.
Фантастически тяжело пройти мимо князя Мстиславского, который сформировал в 1610 году семибоярщину и стал во главе нее, желая для русской знати положения магнатерии в Речи Посполитой. Сильная была идея! Ради нее князь пошел на то, чтобы впустить в Кремль польско-литовский гарнизон.
Ясно, что Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, принесшие на Русь идею византийского единодержавия и строго проводивших ее в хаосе междоусобных войн, – не герои для Белинского.
А Дмитрий Донской, вынесший идею сопротивления Орде из опыта предыдущих поколений – опять не тот человек. Не той, разумеется, системы его идея.
Наконец, князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи, вроде бы явный носитель идеи великого союза с католическими державами и уступок папскому престолу в России. Зря старался, и его «прошли», не увидев.
Но уж Ивана-то Грозного Виссарион Григорьевич мог бы заметить – с его, весьма нетривиальной по тем временам идеей опричнины как инструмента для замены родового начала на государственное… Что ж, и тут «ничего нового», если судить по грозному пафосу Белинского.
Всех этих личностей, с их идеями, как и многих других, не менее своеобычных, Виссарион Григорьевич умудрился не заметить. Надо было очень постараться, но у него все получилось.
Даже в том случае, когда новая идея очевидна – а именно создание из разрозненных русских земель единого Московского государства при Иване III, Белинский, не умея обойти препятствие тонко, простовато лукавит, словно продавец подтухшего товара на рынке. Белинскому приходится отрицать очевидное, и он готов отрицать очевидное. Иван III, видите ли, «не встретил никакого действительного и энергического сопротивления». Дело создания России, по Белинскому, «обошлось без борьбы». То-то удивился бы государь Иван, давший четыре больших сражения Новгородской республике, осаждавший Тверь, дравшийся с Литвой за русские города и рисковавший всей державой своей, а заодно и родным сыном-воеводой, когда выставлял полки на Угру против хана Ахмата, что всю его титаническую борьбу критик из XIX века поставил ни во что.
Иоанн III свергает татарское иго, разрывает ханскую грамоту и приказывает умертвить послов.
Н. С. Шустов. 1862. Сумской художественный музей им. Н. Х. Онацкого
То-то удивилась бы «боярщина», виднейшие представители которой то бегали за литовский рубеж, то составляли «Избранную раду», желая потеснить власть самодержца, что ей инкриминировали покорность…
Не стоит даже упоминать о таких мелочах, как «разрядные книги», по которым якобы видно, что «в древней России личность никогда и ничего не значила». Разрядные книги вообще ничего не говорят на сей счет, это просто списки назначений на высокие должности, делопроизводство XVI–XVII веков. Этак можно и на основе современных зарплатных ведомостей рассуждать о наличии или отсутствии в России Третьего Рима. Или по билету в кино выводить теорию о наступлении новой цивилизационной стадии в России.
Впрочем, Белинский – образованный человек, все-таки учился в Московском императорском университете. Так что нет оснований говорить о его безграмотности в вопросах истории. Нет, Виссарион Григорьевич осознанно искажает историю своей страны, он намеренно энергичен в роли Прокруста.
Историческая правда состоит в том, что при сильнейшем развитии родового начала и на Руси, и, позднее, в России индивидуальное начало также получило глубокое, сильное выражение. Средневековая Россия была богата социальными идеями и яркими личностями.
Так что мнение Белинского, утверждавшего прямо противоположное, мягко говоря, плод его личной фантазии.
Совесть и злодеи
А вот вторая претензия Белинского к «Борису Годунову». Она имеет составной характер и отчасти относится к Пушкину, отчасти же к материалу, на основе которого Александр Сергеевич творил пьесу, а именно «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина.
Послушаем же критика: «Поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть в тайну личности Годунова и поэтическим инстинктом разгадать тайну его исторического значения, не увлекаясь никаким авторитетом, никаким влиянием. Но Пушкин рабски во всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть и который в своем злодействе нашел себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя из нее сделать!..»
У Карамзина Борис Годунов – злодей, который, без сомнений, сгубил отрока Дмитрия – брата царя Федора Ивановича – в Угличе, в 1591 году, руками подосланных мерзавцев. И тот же Годунов, позднее, во всем сиянии своей власти и своего таланта к державным делам, «…должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда небесного». По Карамзину, своего рода предзнаменованиями грядущих бедствий стали «внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усильно противоборствовал твердостию духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы…» А под этим самым «последним явлением судьбы» надо понимать вторжение самозванца и тяжелая война с ним. В то же время, Борис Федорович у Карамзина вовсе не кается в содеянном злодеянии. Но в молчании источников историк милосердно допускает возможность покаяния – стоя одной ногой в гробу, чувствуя скорую кончину, Годунов как бы окидывает мутнеющим взором свои владения и видит: «Пред ним трон, венец и могила, супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы; рабы неблагодарные уже с готовою изменою в сердце; пред ним и святое знамение христианства: образ Того, Кто не отвергнет, может быть, и позднего раскаяния».
Белинский сомневается в суде Карамзина: действительно ли Годунов виновен в угличском убийстве? При всем уме этого деятеля, преступление совершенно топорно, гнусно, глупо. Вот и винит Белинский Карамзина в небеспристрастности: да не могло ли быть так, что Годунову труп мальчика «подарили» его лизоблюды-доброжелатели?! Ужели такой разумный человек не совершил бы зверства осмотрительнее, в полном разуме и расчете? Определенно, не он, – сомневается Белинский, – определенно, виновны лица, искавшие его расположения или же просто без меры преданные ему.
Царевич Дмитрий.
М. В. Нестеров. 1899. Государственный Русский музей
Наука ответить на эти укоризны может лишь с величайшей осторожностью. По сию пору специалисты делятся на тех, кто уверен, как и Карамзин, в убийстве, подстроенном Борисом Годуновым; тех, кто видит в смерти царевича несчастный случай; тех, кто согласен с Белинским и допускает организацию убийства некими доброжелателями Бориса Федоровича. Так, например, с подачи доктора исторических наук Н. С. Борисова, в сериал «Годунов» пришла версия о причастности к смерти Дмитрия Углицкого жены Бориса Федоровича. А ваш покорный слуга предположил в книге «Царь Федор Иванович», что за убийством стоит дядя Бориса Годунова, боярин Дмитрий Годунов.
Карамзин высказал свою версию и держался ее твердо, поскольку основанием для нее служат многочисленные показания источников. Иначе говоря, эта версия до сих пор «почтенная», можно сказать, основная, что бы ни говорил Белинский и каких бы гипотез ни строил автор этих строк. Но, допустим, Карамзин неправ. Отчего же Пушкин должен был сам, без опоры на труды столь блистательного историка, как Карамзин, «проникнуть в тайну личности Годунова»? Да вовсе не потому, что теория Карамзина насчет угличского злодеяния не единственно возможная, а потому, думается, что гений Пушкина взлетел с аэродрома Карамзина не туда, куда хотелось бы Белинскому.
Виссариону Григорьевичу страшно не нравится «злодей, которого мучает совесть». Он бы предпочел другого злодея.
Ах, видите ли, как «избито»!
«Трагическое лицо – пишет Белинский, – непременно должно возбуждать к себе участие. Сам Ричард III – это чудовище злодейства, возбуждает к себе участие исполинскою мощью духа. Как злодей, Борис не возбуждает к себе никакого участия, потому что он – злодей мелкий, малодушный; но, как человек замечательный, так сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себе, он очень и очень возбуждает к себе участие: видишь необходимость его падения и все-таки жалеешь о нем…» И далее, еще откровеннее: «Какая бедная мысль – заставить злодея читать самому себе мораль, вместо того чтоб заставить его всеми мерами оправдывать свое злодейство в собственных глазах! На этот раз историк сыграл с поэтом плохую шутку…»
Вот она, квинтэссенция высказывания Белинского; она-то и разделяет его с Пушкиным и Карамзиным. Слава Богу, что разделяет! Александр Сергеевич и Николай Михайлович справедливо стоят в русской культуре на пьедесталах неизмеримо более высоких, нежели Виссарион Григорьевич.
Все это желание видеть «кипучие страсти», неподвластные вере, представляющие собой бунт не только против нравственности, но и, по большому счету, против Бога, а потому создающие впечатление «исполинской мощи духа», – такой ужасающий, пошлый, унылый, примитивный провинциализм! Как будто актер детского театра из глубинки выходит на арену во «взрослом» спектакле, пытается играть серьезного драматического персонажа, и вдруг, чтобы придать себе значительности, заливается «мефистофелевским» смехом. Зал сначала молчит, пораженный его идиотизмом, потом заливается смехом – самым простым и искренним, а не мефистофелевским – в ответ. А напоследок кто-нибудь еще добавляет: «Хо-хо-хо», – совершенно как Санта Клаус, мол, Санта Клаус тут столь же уместен.
Супермегазлодей – это ведь шаблон, пропись, фигура из бондианы или какого-нибудь марвеловского комикса. У Шекспира он мог быть хорош и уместен, а прочее – перепевы Шекспира, «избитые» уже ко времени Виссариона Григорьевича намного более, чем «скучная» мораль.
Какая в безудержном, оправдывающем себя, концентрированном злодействе «исполинская сила духа»? Ричард III у Шекспира – храбрый подлец, сочувствовать ему можно лишь в одном: умен и смел, но ведь до какой степени ущербная личность! Жаль, жаль. Если есть иное сочувствие, то это либо, как у Белинского, глубокий, любующийся собой провинциализм, либо душевное нездоровье.
Пушкин же какое-то время действительно двигается в канве Карамзина. Заготовлены у него приметы карамзинского «внутреннего беспокойства Борисова сердца». Таков знаменитый монолог царя о тщетности собственных достижений: гордыня привела его на трон, а совесть уничтожает плоды деятельной гордыни…
Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Главная ошибка, а вернее, подтасовка Белинского состоит в том, что до Петра I в России якобы не развивается индивидуальное начало, совершенно задавленное началом родовым. Виссарион Григорьевич не видит (не хочет видеть) никаких «признаков личного», ибо, по его собственным словам, даже ожесточенная борьба за власть не ознаменована внесением участников ее «новой идеи… нового принципа… нового элемента». Конечно же, родовое начало получило в России мощное развитие: до Петра I оно не господствовало, поскольку основу его, местничество, отменил еще царь Федор Алексеевич, но вообще отрицать его силу невозможно. Однако… сказать, что оно вчистую задушило начало личное, уничтожало всякую возможность персоне, даже и представляющий какой-либо могущественный род, высказать собственную программу, собственную идею относительно устройства русского социума, это даже не преувеличение, это слепота. Притом слепота, думается, намеренная.
Надо очень постараться, чтобы не заметить князя Андрея Курбского, просвещенного аристократа, сделавшегося перебежчиком. Его предательство подчинено идее особых прав и привилегий родовой знати, нарушенных царем, что дало изменнику почву для самооправдания и даже прокламирования особой правды «великих людей во Израиле».
Трудно пойти мимо Заруцкого с его маниакальной идеей казачьей вольницы, разбившейся о державное чувство русского народа на финальном этапе Смуты.
Фантастически тяжело пройти мимо князя Мстиславского, который сформировал в 1610 году семибоярщину и стал во главе нее, желая для русской знати положения магнатерии в Речи Посполитой. Сильная была идея! Ради нее князь пошел на то, чтобы впустить в Кремль польско-литовский гарнизон.
Ясно, что Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, принесшие на Русь идею византийского единодержавия и строго проводивших ее в хаосе междоусобных войн, – не герои для Белинского.
А Дмитрий Донской, вынесший идею сопротивления Орде из опыта предыдущих поколений – опять не тот человек. Не той, разумеется, системы его идея.
Наконец, князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи, вроде бы явный носитель идеи великого союза с католическими державами и уступок папскому престолу в России. Зря старался, и его «прошли», не увидев.
Но уж Ивана-то Грозного Виссарион Григорьевич мог бы заметить – с его, весьма нетривиальной по тем временам идеей опричнины как инструмента для замены родового начала на государственное… Что ж, и тут «ничего нового», если судить по грозному пафосу Белинского.
Всех этих личностей, с их идеями, как и многих других, не менее своеобычных, Виссарион Григорьевич умудрился не заметить. Надо было очень постараться, но у него все получилось.
Даже в том случае, когда новая идея очевидна – а именно создание из разрозненных русских земель единого Московского государства при Иване III, Белинский, не умея обойти препятствие тонко, простовато лукавит, словно продавец подтухшего товара на рынке. Белинскому приходится отрицать очевидное, и он готов отрицать очевидное. Иван III, видите ли, «не встретил никакого действительного и энергического сопротивления». Дело создания России, по Белинскому, «обошлось без борьбы». То-то удивился бы государь Иван, давший четыре больших сражения Новгородской республике, осаждавший Тверь, дравшийся с Литвой за русские города и рисковавший всей державой своей, а заодно и родным сыном-воеводой, когда выставлял полки на Угру против хана Ахмата, что всю его титаническую борьбу критик из XIX века поставил ни во что.
Иоанн III свергает татарское иго, разрывает ханскую грамоту и приказывает умертвить послов.
Н. С. Шустов. 1862. Сумской художественный музей им. Н. Х. Онацкого
То-то удивилась бы «боярщина», виднейшие представители которой то бегали за литовский рубеж, то составляли «Избранную раду», желая потеснить власть самодержца, что ей инкриминировали покорность…
Не стоит даже упоминать о таких мелочах, как «разрядные книги», по которым якобы видно, что «в древней России личность никогда и ничего не значила». Разрядные книги вообще ничего не говорят на сей счет, это просто списки назначений на высокие должности, делопроизводство XVI–XVII веков. Этак можно и на основе современных зарплатных ведомостей рассуждать о наличии или отсутствии в России Третьего Рима. Или по билету в кино выводить теорию о наступлении новой цивилизационной стадии в России.
Впрочем, Белинский – образованный человек, все-таки учился в Московском императорском университете. Так что нет оснований говорить о его безграмотности в вопросах истории. Нет, Виссарион Григорьевич осознанно искажает историю своей страны, он намеренно энергичен в роли Прокруста.
Историческая правда состоит в том, что при сильнейшем развитии родового начала и на Руси, и, позднее, в России индивидуальное начало также получило глубокое, сильное выражение. Средневековая Россия была богата социальными идеями и яркими личностями.
Так что мнение Белинского, утверждавшего прямо противоположное, мягко говоря, плод его личной фантазии.
Совесть и злодеи
А вот вторая претензия Белинского к «Борису Годунову». Она имеет составной характер и отчасти относится к Пушкину, отчасти же к материалу, на основе которого Александр Сергеевич творил пьесу, а именно «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина.
Послушаем же критика: «Поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть в тайну личности Годунова и поэтическим инстинктом разгадать тайну его исторического значения, не увлекаясь никаким авторитетом, никаким влиянием. Но Пушкин рабски во всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть и который в своем злодействе нашел себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя из нее сделать!..»
У Карамзина Борис Годунов – злодей, который, без сомнений, сгубил отрока Дмитрия – брата царя Федора Ивановича – в Угличе, в 1591 году, руками подосланных мерзавцев. И тот же Годунов, позднее, во всем сиянии своей власти и своего таланта к державным делам, «…должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда небесного». По Карамзину, своего рода предзнаменованиями грядущих бедствий стали «внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усильно противоборствовал твердостию духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы…» А под этим самым «последним явлением судьбы» надо понимать вторжение самозванца и тяжелая война с ним. В то же время, Борис Федорович у Карамзина вовсе не кается в содеянном злодеянии. Но в молчании источников историк милосердно допускает возможность покаяния – стоя одной ногой в гробу, чувствуя скорую кончину, Годунов как бы окидывает мутнеющим взором свои владения и видит: «Пред ним трон, венец и могила, супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы; рабы неблагодарные уже с готовою изменою в сердце; пред ним и святое знамение христианства: образ Того, Кто не отвергнет, может быть, и позднего раскаяния».
Белинский сомневается в суде Карамзина: действительно ли Годунов виновен в угличском убийстве? При всем уме этого деятеля, преступление совершенно топорно, гнусно, глупо. Вот и винит Белинский Карамзина в небеспристрастности: да не могло ли быть так, что Годунову труп мальчика «подарили» его лизоблюды-доброжелатели?! Ужели такой разумный человек не совершил бы зверства осмотрительнее, в полном разуме и расчете? Определенно, не он, – сомневается Белинский, – определенно, виновны лица, искавшие его расположения или же просто без меры преданные ему.
Царевич Дмитрий.
М. В. Нестеров. 1899. Государственный Русский музей
Наука ответить на эти укоризны может лишь с величайшей осторожностью. По сию пору специалисты делятся на тех, кто уверен, как и Карамзин, в убийстве, подстроенном Борисом Годуновым; тех, кто видит в смерти царевича несчастный случай; тех, кто согласен с Белинским и допускает организацию убийства некими доброжелателями Бориса Федоровича. Так, например, с подачи доктора исторических наук Н. С. Борисова, в сериал «Годунов» пришла версия о причастности к смерти Дмитрия Углицкого жены Бориса Федоровича. А ваш покорный слуга предположил в книге «Царь Федор Иванович», что за убийством стоит дядя Бориса Годунова, боярин Дмитрий Годунов.
Карамзин высказал свою версию и держался ее твердо, поскольку основанием для нее служат многочисленные показания источников. Иначе говоря, эта версия до сих пор «почтенная», можно сказать, основная, что бы ни говорил Белинский и каких бы гипотез ни строил автор этих строк. Но, допустим, Карамзин неправ. Отчего же Пушкин должен был сам, без опоры на труды столь блистательного историка, как Карамзин, «проникнуть в тайну личности Годунова»? Да вовсе не потому, что теория Карамзина насчет угличского злодеяния не единственно возможная, а потому, думается, что гений Пушкина взлетел с аэродрома Карамзина не туда, куда хотелось бы Белинскому.
Виссариону Григорьевичу страшно не нравится «злодей, которого мучает совесть». Он бы предпочел другого злодея.
Ах, видите ли, как «избито»!
«Трагическое лицо – пишет Белинский, – непременно должно возбуждать к себе участие. Сам Ричард III – это чудовище злодейства, возбуждает к себе участие исполинскою мощью духа. Как злодей, Борис не возбуждает к себе никакого участия, потому что он – злодей мелкий, малодушный; но, как человек замечательный, так сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себе, он очень и очень возбуждает к себе участие: видишь необходимость его падения и все-таки жалеешь о нем…» И далее, еще откровеннее: «Какая бедная мысль – заставить злодея читать самому себе мораль, вместо того чтоб заставить его всеми мерами оправдывать свое злодейство в собственных глазах! На этот раз историк сыграл с поэтом плохую шутку…»
Вот она, квинтэссенция высказывания Белинского; она-то и разделяет его с Пушкиным и Карамзиным. Слава Богу, что разделяет! Александр Сергеевич и Николай Михайлович справедливо стоят в русской культуре на пьедесталах неизмеримо более высоких, нежели Виссарион Григорьевич.
Все это желание видеть «кипучие страсти», неподвластные вере, представляющие собой бунт не только против нравственности, но и, по большому счету, против Бога, а потому создающие впечатление «исполинской мощи духа», – такой ужасающий, пошлый, унылый, примитивный провинциализм! Как будто актер детского театра из глубинки выходит на арену во «взрослом» спектакле, пытается играть серьезного драматического персонажа, и вдруг, чтобы придать себе значительности, заливается «мефистофелевским» смехом. Зал сначала молчит, пораженный его идиотизмом, потом заливается смехом – самым простым и искренним, а не мефистофелевским – в ответ. А напоследок кто-нибудь еще добавляет: «Хо-хо-хо», – совершенно как Санта Клаус, мол, Санта Клаус тут столь же уместен.
Супермегазлодей – это ведь шаблон, пропись, фигура из бондианы или какого-нибудь марвеловского комикса. У Шекспира он мог быть хорош и уместен, а прочее – перепевы Шекспира, «избитые» уже ко времени Виссариона Григорьевича намного более, чем «скучная» мораль.
Какая в безудержном, оправдывающем себя, концентрированном злодействе «исполинская сила духа»? Ричард III у Шекспира – храбрый подлец, сочувствовать ему можно лишь в одном: умен и смел, но ведь до какой степени ущербная личность! Жаль, жаль. Если есть иное сочувствие, то это либо, как у Белинского, глубокий, любующийся собой провинциализм, либо душевное нездоровье.
Пушкин же какое-то время действительно двигается в канве Карамзина. Заготовлены у него приметы карамзинского «внутреннего беспокойства Борисова сердца». Таков знаменитый монолог царя о тщетности собственных достижений: гордыня привела его на трон, а совесть уничтожает плоды деятельной гордыни…
Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье: