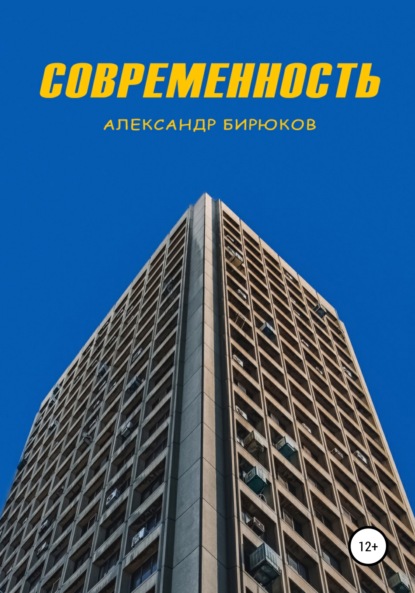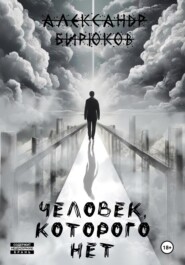По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Современность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Современность
Александр Романович Бирюков
Недалекое будущее. Молодой человек узнает, что среди идеального общества, победившего болезни, голод, нищету, преступность и многое другое, общества, в котором люди привыкли, что любой изъян, любую генную ошибку можно изменить с помощью технологий, существует группа людей, живущая обособленно. Эти люди считают, что технологии несут вред: лишают людей их истинной сущности и естественных стремлений. Для молодого человека это мир чуждый, непривычный, но от этого не менее интересный и влекущий. Что же молодой человек узнает у них? Примет ли их точку зрения? Будет ли он после встречи с ними таким же, каким был раньше? Какое будущее ждет человечество?
Александр Бирюков
Современность
Я где-то слышал, что существует группа людей, которая до сих пор против вмешательства в естественный ход жизни человека. Да, в наше время до сих пор существует много различных конфессий, верований и сект, которые хотят казаться исключительными на фоне всеобщей однотипности – выделиться, так сказать. Но они, – про этих людей я слышу впервые и, честно говоря, мне стало очень интересно узнать про них немного больше, потому что в наше время знать все – это уже не такая из ряда вон выходящая способность, как это было еще у наших предков лет сто назад.
Они пропагандируют естественную и «неподдельную» жизнь среди нас – людей, которые претерпели достаточно сильные изменения своего организма, которые уже излечились от множества недугов с помощью генных усовершенствований, нас – людей, которые стали сильнее, умнее и совершеннее, чем наши предки, умиравшие от таких пустячных болезней как ВИЧ или рак. Эти люди не хотят, чтобы нарушалась естественная цепь событий, ведущая человечество к единственно правильному развитию, к природной, «слепой» эволюции. Но кто совершенен, если не мы?
Мне не составило особого труда найти то место, где жили эти люди. Большая коммуна единомышленников на краю огромного города, где под рукой было все необходимое: любая помощь, любая пища, даже маленькая порция которой удовлетворяла потребностям и насыщала организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, любые развлечения, любая информация, которая теперь доступна для всех и каждого во всех уголках мира – только попроси и тебе устроят блаженную жизнь, о которой мечтали многие на протяжении тысяч и тысяч лет, – но эти люди отрицали все блага, которые несет нам прогресс.
Стоя у входа в небольшое серое здание, которое не очень сильно выделялось от подобных ему строений по всему району – району, который был похож на резервацию, но, тем не менее, никак и никем не ограждался, ничем не отличался от разношерстных колоритных районов по всему мегалополису, где и жил я уже довольно долгое время, – стоя у входа в это здание мне, честно говоря, было немного страшно. Нет, я не боялся насилия или жестокости в свой адрес – эти чувства отсутствовали у меня по определению с самого рождения, но мне было немного непривычно видеть мир не таким, каким я привык его видеть. Мне казалось, что я видел все, я побывал в десятках тысяч районов и городов по всему земному шару: районы в стиле модерн, конструктивизм, ранняя псевдоготика, функционализм и метаболизм, колоритные улицы всех национальностей планеты, выстроенные с нуля, и такие же районы старых поселений, миниатюрных пирамид и восточных храмов, существовавших еще задолго до промышленной революции; я видел тысячи и тысячи домов в различных архитектурных решениях, задумках и планах, в свое время отвергнутых эпохами и их вождями – я знал каждую деталь в этих домах, я знал историю каждого из них, но сейчас, стоя перед серым и невзрачным многоэтажным домом в центре моего мегалополиса, ставшего мне по-настоящему родным, я не знал об этом строении, ровным счетом, ничего – такого я никогда не видел и не имел ни малейшего представления о его истории.
По улице бегали дети, играя в примитивные игры, кричали и резвились, словно отсталые – их необходимо было уже давно направить к врачам на обследования и не выпускать до тех пор, пока не будет выявлена причина их странного поведения. Но они до сих пор были на свободе, как животные в постиндустриальную эпоху. Детей было мало, намного меньше, чем на крупных площадках современных, только-только застроенных пространств.
Открывая стеклянную матовую дверь, я пропустил выходившую из дома женщину. На мгновение мы встретились с ней глазами – уставший взгляд в серых хрусталиках, окантованных изумрудной россыпью; «напрасная и бессмысленная жизнь в оковах “настоящей”, “неподдельной” жизни», – подумал я, еще не привыкнув к вялотекущему движению ее ног и шелесту ее платья. Через несколько секунд мне уже стало их не хватать – за мной закрылась дверь, я остался один. Я видел в этих глазах целый мир, но другой, совершенно другой, который я не мог понять, не мог понять даже при том, что я знал ровно столько, сколько мог усвоить за свою недолгую жизнь: миллионы тонн бумажной информации и миллионы экзабайт знаний, которые хранились во всемирной сети. Что же хранилось в голове у нее? Что она могла знать, смотря на меня такими обреченными глазами, полными усталости, рутины и безропотного спокойствия, не приносящего никакого удовлетворения? Она была изнурена, она была стара, физически стара – именно так мне и рассказывали об этих людях, живущих по своим законам и своим правилам. В первую очередь их отличала сухость кожи, огромное количество складок и морщин, бледность – это то, что сразу же бросалась в глаза; ее волосы были спутаны и неказисты.
Она прошла, оставив после себя не очень неприятный запах: запах пота и пережаренной – пережаренной! не просто подогретой, как это делают некоторые, а именно пережаренной – пищи. Еще мне казалось, что я уловил запах слез, совсем недавно высохших на ее щеках и в уголках глаз. Это было удивительно и непривычно для меня; мое сердце стало биться немного быстрее от полученного количества информации, которая была для меня совершенно нова, – она не могла ужиться со всем тем, что я знал и чувствовал за все эти годы. И я задался вопросом: а правильно ли все то, что я чувствовал? правильно ли все то, что я знал?
Я стал подниматься по лестнице на нужный мне этаж к человеку, который, по рассказам, мог помочь получить ответы на интересующие меня вопросы; но сейчас, когда я оказался здесь, мне стало чуждо все то, что я знал. Я забыл все то, что я хотел спросить, и теперь я просто шел на нужный мне этаж без всякого плана, без всякой идеи – наверное, именно поэтому мне сказали, что здесь можно испытать то, что нигде и никогда я раньше не испытывал.
Они оказались правы. Лестница была такая же серая, как и цвет дома: осенне-пепельная с множеством темно-серых вкраплений. С каждой платформы между этажами, на которых я останавливался, чтобы перевести дыхание, открывался прекрасный вид на окрестности, и чем выше я поднимался, тем красивее становилось… не то, чтобы красивее, скорее, необычнее. Я видел множество панорам с высоты птичьего полеты и даже выше, намного выше, но сейчас с высоты двенадцатого этажа я видел то, что заставляло меня забыть все полеты в пределах стратосферы, я видел разруху и нищету, но, как бы это было ни странно, только физическую, никак не ментальную, научную или духовную, – по всей видимости, люди, живущие здесь, считали свои достижения на порядок выше, чем достижения всей цивилизации в целом.
Дойдя почти до предпоследнего этажа, я понял, что достиг желанной цели. За обычной металлической дверью, чистой на вид, тихо и монотонно скрипящей, оказался большой и длинный коридор. По сторонам коридора располагались металлические грузные двери, некоторые из которых были слегка приотворены. Из-за дверей доносились громкие детские крики; но за всеобщей давящей тишиной эти звуки растворялись, после чего тихое эхо еще раз доносилось до моих ушей, а затем наступали секунды, когда ничего нельзя было услышать, кроме едва различимых постукиваний с той стороны дверей, где еще недавно был слышен детский гул. Странные диалекты слышались мне в этих детских голосах, и хотя я знал свыше пяти тысяч диалектов и мог в любую секунду адаптировать полтораста языков, я не мог узнать в этих голосах, кричащих какие-то совсем наивные и по-детски забавные ругательства, ничего такого, что бы я мог понять наверняка, – только косвенно я мог сопоставить то, что я знаю, с тем, что я слышал. Я знал этот язык – он был мне родным и, кажется, без всякого сквернословия и ненужных шипящих согласных или мычащих гласных не было ничего такого, что могло бы смутить меня, но все же я не понимал, как мог на этом континенте существовать диалект, который был таким непритязательным и странным. И эти двери – они тоже сильно удивили меня, – они ненастоящие, нет! Это все просто декорации к новому фильму, где героям нужно жить по-особенному, чтобы прочувствовать на своей шкуре, что есть такое их роль. Это казалось невозможным: как будто контролируемый сон, где можно сформировать свой мир, лишенный права на ошибки, – такие сны видели все, отчего они потеряли свою многогранность и индивидуальность, они потеряли свою структуру неординарности. И если когда-то люди могли видеть свои собственные сны, теперь каждый из нас видел одно и то же, – эстетический дефект, заключавшийся в однообразии; жертва, принесенная в угоду совершенству.
Тихо отворив металлическую дверь, я попал в следующий коридор, подобный тому, в котором я только что был, но только по сторонам этого коридора было намного больше дверей: таких же железных и таких же холодных. Некоторые двери были распахнуты настежь; между квартирами бегали дети, голоса и крики которых я слышал еще задолго до того, как нашел источник шума. Мне казалось, что все это место похоже именно на муравейник, на тот самый муравейник, о котором нам рассказывали в школе и который, честно говоря, я никогда в жизни не видел, но то, что я представлял его подобным образом, слушая в школе о большой колонии маленьких существ, – это было совершенно точно так. Я так привык к размеренной жизни в уединении, в постоянной тишине и отсутствии угнетающего, долгого контакта – как вербального, так и физического – с людьми, что теперь испытывал сильный дискомфорт от слышимого шума и постоянного мельтешения детей перед собой.
Когда я подошел ближе, дети, увидев меня, остановились. Они рассматривали меня; оценивая взглядом, они простояли так довольно долгое время, после чего снова стали бегать и кричать что-то свое: наивно-детское. Я успел заметить в руках маленькой девочки игрушку, старую и с ног до головы грязную. Этой игрушке, наверное, было не меньше пяти лет, а, может быть, даже и больше – никто не держал у себя дома вещей, будь то предметы быта, электроника или картины, окна, настенные покрытия, больше двух лет – это было моветоном, а эта маленькая девочка вцепилась в эту игрушку так крепко, что можно было подумать это была ее единственная игрушка на всем белом свете. И когда я пошел дальше по коридору, мне посчастливилось мельком глянуть туда, куда только что забежали дети. В этих квартирах, которые были просто большими и заполненными всяким хламом комнатами, было идеально чисто, и даже нагромождение всякого хлама не казалось скопищем мусора – все стояло ровно на своих местах, очевидно, отведенных для этого, хотя от количества маленькой утвари в небольшом помещении пестрило в глазах.
Меня обуревали непривычные, неизвестные мне ранее чувства; сложно сказать, что я испытывал сильнее: тошноту и отвращение от всего здесь происходящего, от странных, порочных лиц, их мимики, возгласов и действий, или же невероятное, неописуемое счастье от неизведанного, – я был здесь словно первооткрыватель, нашедший племена, неизвестные Старому Свету. Я чувствовал себя отвратительно, но, вместе с тем, невероятно – все это чередовалось между собой, а порой сливалось в одно сумбурное чувство, захватывающее все тело целиком, захватывающее и сковывающее голову. На секунду я терялся и мне становилось совершенно все равно, что и сколько я всего знаю, сколько я видел за свою жизнь: людей, мест, сколько я слышал и знал текстов песен, сколько знал созвучий и воплощений музыкальных дилемм в форме каденции и абсолютной дисгармонии, сколько обертонов соскакивало с гитарных струн в консерваториях; мне стало все равно: умру ли я или буду жить вечно. Но это ощущение продолжалось секунды, а после я взял себя в руки, терзаемый сомнениями: а нужно ли мне все-таки продолжать идти, продолжать двигаться вперед, узнавая нечто сокровенное? Я шел дальше, не представляя, что спрашивать у человека, к которому я направлялся, не представляя, что ждет меня впереди и как это отразится на моем и без того подорванном душевном состоянии. Такого, я считал, невозможно испытать нигде; в любой точке планеты, с любым багажом знаний и любой подготовкой – нельзя было прочувствовать таких смешанных эмоций, какие я получил и получаю до сих пор здесь. Кажется, видеть своими глазами прошлое, видеть своими глазами декаданс и стагнацию, воплощенную в людях, их идеях и мыслях – все это казалось таким… таким нереальным, таким жутким, но так же, в какой-то мере, и прекрасным, – я очутился в мире, где нет для нас – людей, не знающих страданий и неприязни, ненависти и боли – привычных положений и устоев. Все эти чувства поглощали меня целиком, и это при том, что я все еще даже не контактировал с ними.
Подойдя к нужной мне двери – одной из бесконечного множества дверей, – я на секунду остановился. Почему я это сделал? разве не должен был я безотлагательно сделать то, что намеревался изначально? что пугало меня, что теперь расслаивало мои решения на пласты сомнений и нерешительности? Как странно, что я остановился, и это стало меня угнетать, да, уже угнетать: я чувствовал себя не в своей тарелке, не в своей миске, плошке и блюдце, но дело не в семантике моего чувства, а в том, что оно вообще есть, что оно существует теперь. Я не испытывал таких чувств даже тогда, когда принимал психоделические вещества, даже тогда, когда один раз в своей жизни подрался! – о как же это было глупо и неэтично, несовременно; какое отвращение я испытываю, когда осознаю, что даже сейчас человек не может оградить себя от насилия, – смятение и тошнота – это все, что осталось от привычного мне спокойствия. Как будто в генах осталось что-то от нашей животной сущности, и сейчас, в этом месте, они пробудились, проснулись от долго сна, и мне было страшно, очень страшно.
Все же я решился: я открыл дверь, чтобы понять, чтобы узнать нечто новое, ведь знания для меня всегда стояли на первом месте, а узнать то, чего не знает почти никто, – это так заманчиво и соблазнительно. Но внутри, к моему удивлению, никого не оказалось, только нагромождение мебели и статуэток, миниатюрных фигурок разного дизайна и цвета, совсем не сочетавшихся друг с другом – такая эклектика резала глаз, но, по всей видимости, только мой. В комнате стояло множество белых ваз с большими крепкими деревьями внутри них, чьи продолговатые острые листья свисали почти наполовину всей высоты ствола; длинный плоский изогнутый телевизор стоял в нише белого шкафа с множеством стекол, которые, увеличивали пространство первой комнаты, но уродовали ее тем, что размножали захламление и огромное количество ненужных вещей; у правой стены стоял высокий диван с бежевой спинкой и подушками, каркас был сделан из дерева, покрытый темно-коричневой краской, а под диваном лежал ковер, аккуратный черный ковер без веревочек и шнуров – просто черный ковер, плотный и немного заляпанный чем-то белым в правом нижнем углу, у самой ножки дивана; пол был гладкий и белый, покрытый лаком или эмалью. Робко стукнув несколько раз в дверь с внутренней стороны, а потом еще и еще, я ждал какого-либо отклика на мой едва слышимый зов, но ничего не произошло, – теперь мне казалось, что в тишине до сих пор висит тяжелый и гулкий звук стука, который до сих пор витает в пространстве. Никого не было в квартире, совсем никого.
И хотя мне стало легче от того, что мне не придется теперь общаться и ничего спрашивать у незнакомца, к которому у меня пролегал путь до этой секунды, я все же был немного расстроен: удовлетворен проделанным путем, но не доволен тем, что зашел не так далеко, как хотел. Словно боясь обжечься еще больше, я хотел убежать, уйти, уплыть, упорхнуть, – словом, сделать все, чтобы как можно скорее убраться отсюда, но я не мог не пройти в конец этого длинного коридора, потому что там, в конце, виднелось огромное панорамное окно и часть лоджии, с которой открывался вид на огромную территорию близлежащих мест. Я пошел туда, ведомый неизвестной силой. Я пошел туда только потому, что мне больше нечего терять, да и, в принципе, мне и так было нечего терять на самом деле, но я знал, что причиной моему ярому стремлению было сидевшее глубоко внутри желание все же найти того самого человека, с которым я хотел поговорить, у которого я хотел так много узнать, тем более, сейчас.
Слева от панорамного окна располагался кухонный гарнитур и небольшие шкафы, по той же схеме висящие над столами; справа – три дивана такого же стиля и цвета, как и в комнате, в которой я был совсем недавно, продольный кофейный столик на очень маленьких металлических ножках, отчего он почти что касался брюхом пола, и в два раза больше этого столика ковер, придавленный этими самыми ножками конической формы, сужающимися ближе к самому полу; по комнате лежало много мягких кресло-мешков; в углу, куда и были направлены кресло-мешки, висел телевизор. Здесь везде царило одиночество, на фоне которого было так много людей (которых сейчас не было; только дети резвились за спиной, перебегая из квартиры в квартиру), которые своим присутствием разрушали всю подноготную, едва заметную атмосферу уютной безропотности и тишины.
Я подошел к кухонному гарнитуру, положил руку на лакированную поверхность, а потом пошел вдоль кухонной столешницы, рукой скользя по гладкому покрытию, на котором изредка встречались крошки или жирные пятна, от которых пальцы начинали скользить немного быстрее. Это было пространство для отдыха и общения, но сейчас тут никого не было, совсем никого, с кем можно было бы поболтать и даже с кем хотелось бы поболтать в таком большом, ограниченном прозрачными стенами и стенами невзрачными, которые примыкали к соседним квартирам, спрятанным в тесноте огромного коридора, помещении. От моих мягких, почти что воздушных и обычно неслышимых шагов, под покрытием пола что-то скрипело, или даже шипело, но только несколько раз, когда я проходил иссиня-черный кофейный аппарат, расположенный посередине гарнитура. И, о чудо, когда я подошел к самому краю столешницы, когда дальше уже, казалось, быть ничего не может, следом за ней оказалась небольшая ниша, где на кресло-мешке сидел мужчина, свернувшись клубком и обхватив себя левой рукой за колени, правую спрятав за поясницу; и когда я подошел к нему совсем вплотную, он преобразился на мгновение, раскрыл широко глаза, изучая меня, а потом снова свернулся в клубок, вдавился в мягкий наполнитель кресло-мешка и стал глупо смотреть себе под ноги, глубоко вдыхая спертый и сухой воздух.
Меня удивило, что в лоджии все-таки кто-то есть, потому что все это время я так беспардонно шлялся по территории мне не принадлежавшей и даже не считавшейся общественной в привычном для меня понимании.
– Извините меня, – сказал я, оправдываясь больше перед собой, чем перед мужчиной, совсем не обращавшим на мои слова внимания.
Мое сердце начало учащенно колотиться, и раз я уже начал разговаривать с незнакомцем, я решил рискнуть и продолжил с ним разговор. Я решил узнать у него, не знает ли он человека, живущего в той квартире, куда я недавно заходил, чтобы услышать ответы на интересующие меня вопросы. Мужчина сказал, что этот самый человек – он. У нас завязался разговор; притащив кресло-мешок из центра лоджии и сев рядом с мужчиной, я заинтересованно слушал.
В начале нашего диалога я много спрашивал, но потом в этом совсем пропала необходимость, потому что мой визави и так стал говорить беспрерывно. Он говорил о вещах, которые захватывали меня с головой, которые казались мне настолько дикими и нетривиальными, что я просто сидел, разинув рот, и слушал, не прерывая его.
– Вспомни великих ученых, писателей, спортсменов того времени – все они были гениальны по-своему, все они были больны в той или иной степени, все они казались нам невероятно умными… а теперь мы можем просто пожелать особый ген, сказать врачам, чтобы они наделили наших детей особенными способностями, и ни нам, ни им просто не надо ни к чему стремиться – они не смышлёные, они просто умные. Но пойми: они не могут выйти за рамки устоявшихся представлений о мире, – да они знают все, но лишь в тех областях, которые освоило человечество за все эти годы. Они не гениальны, – они глупы. Только ошибками можно по-настоящему что-то сотворить, создать. – Его руки были неестественно скручены, вогнуты внутрь, словно он специально поджимал кисти, чтобы не выпячивать пальцы наружу, в чуждую ему среду. Всем своим видом он показывал, что ему неприятно находится рядом со мной, но, тем не менее, он продолжал говорить. Словно ребенок, он обжимал себя руками, а порой, расплетая их, начинал тереть ладонями плечи и ноги, как будто ему было очень холодно. – Ваше будущее пугающе-прекрасно, но станет ли оно таким, каким вы его видите сейчас: безоблачным, светлым? будет ли оно столь радужным и прекрасным без всяких забот и терзаний, без смертей и болезней, если вы даже теперь не знаете, что такое жизнь… что такое настоящая жизнь! Двести тысяч лет человечество формировалось на боли и на страданиях, естественном отборе, если вам так угодно, и именно поэтому мы сейчас живы, потому что мы приспособились, выжили в дичайших условиях текущего времени. Да, мои родители тоже имели иммунитет к некоторым заболеваниям и еще улучшенный метаболизм у отца, и повышенная стойкость к холодам и жаре у матери, но имея все это, они понимали, что живется им не только не лучше, но и намного, намного хуже, и именно поэтому они не захотели, чтобы я был чем-то искусственным или «полуживым». Да, они обрекли меня на смерть, но я бы мог избежать этой смерти уже сотни тысяч раз; но зачем мне это делать? Я не хочу так жить, потому что я верю, что в первую очередь мы сами вершим свою судьбу и сами решаем, что правильно, а что нет, и я считаю, что если мне было суждено стать больным, то, значит, так тому и быть – значит, я слаб и не должен продолжать жить, изменяя свой организм, обманывая все эти тысячи и тысячи лет человеческим достижением; я считаю, что теперь никто из вас не способен продолжать свое существование как вид. Как клон – да, а как вид – совсем нет… Звучит, конечно, смешно, но у меня каким-то образом проявилась гемофилия, переданная мне моими предками, а несколько лет назад у меня обнаружили рак. – Он был весь исцарапан и изрезан, его руки были покрыты толстыми рубцами. – И теперь я знаю, я точно знаю, что не проживу долго, но я не имею никакого страха – он не властен надо мной, – но только жизнь… остаток жизни, полной надежд и напрасных сожалений. Я мог бы за два дня избавиться от любой болезни на свете, по крайней мере, от большинства из них, но зачем? зачем мне бесконечно долгая жизнь, если я так глуп, чтобы иметь хоть что-нибудь про запас: время, силы, чувства. Вы такие умные, но вы не понимаете, что такое настоящая, натуральная и неподдельная жизнь, – после этого он приумолк.
Я действительно только сейчас смог осознать, что такое жизнь, что живя по инерции все эти годы, зная о философии разных эпох, зная рассуждения и мысли великих гениев, я ничего, по-настоящему ничего не понимаю в разделах, которые они изучали и над которыми они столько думали – для меня это все было только знание, но не понимание всего этого. Только прочувствовав, пропустив через себя что-то, можно изучить или хотя бы отдаленно понять, уловить суть. И сейчас, сейчас я, даже несмотря на столь огромное количество информации, мало что мог выявить для себя с точки зрения осознанности, но так много почувствовать – да, я чувствовал смятение и животрепещущий накал страстей, разрывавших меня изнутри, но вместе со всем этим приходило умиротворение, спокойствие и четкость мышления, утонченность обыденной мысли, никак меня не трогавшей ранее, – совсем, совсем не трогавшей, – блаженный страх перед неизведанным.
Я продолжал слушать:
– Но если мы станем совершенны, – говорил мужчина, – то будем ли мы действительно «совершенными»? ведь существует столько измерений, разумных форм жизни, непохожих на нас, столько неизвестного – того, что мы просто пока не можем понять, осознать; и, может быть, совершенство для нас сейчас – это изъян в будущем, может, это просто ненужная мутация, которая станет ящиком Пандоры для всего человечества в целом? И кто может гарантировать нам, что все это не превратится в фарс через десять – двадцать лет?
Он еще рассказывал и рассказывал о, как он сам считал, негативных последствиях вмешательства в жизнь человека и, в частности, ребенка, который еще не может сам решить, что он хочет и что ему действительно нужно в его жизни – все было уже предпринято задолго до его рождения, и в этом заключалось основное противоречие. Но он говорил не только о плохом, как ярый фанатик, отрицающий все, что он не понимает, – он говорил так же и о том, что было естественно и, с точки зрения морали и эстетической составляющей, правильно: о лечении болезней, о самом настоящем исцелении генофонда и его улучшении, использовании лекарств и процедур, – но даже говоря об этом осознанно и обдуманно, он не принимал этого и не хотел, чтобы это вошло в его жизнь или в жизнь кого-нибудь из его близких друзей или знакомых, которые жили совсем рядом, в соседних комнатах, этажах или зданиях. Его мир превратился в обособленную организацию, где не существует страха боли, страха смерти или непонятной, давящей скуки от бесконечного непонимания жизненного цикла – он понимал все слишком хорошо, хотя и не так обширно, как это понимал я, но, между тем, мне казалось, что он знает намного больше меня – понимает намного больше меня, несмотря на наши явные различия в мышлении и количестве знаний. Он говорил безостановочно, но порой замолкал, смотрел на меня исподтишка, словно пытался убедиться в том, понимаю ли я хотя бы толику его слов; его поникший, больной взгляд блуждал не только по мне, но и где-то за пределами места, где я находился, и мне казалось, будто за моей спиной ходят призраки, а он смотрит за их движениями, учась у них сомнамбулической способности не замечать ничего вокруг.
Я не знал ровным счетом ничего про то, кем являлись эти люди на самом деле, о чем они думали и к чему стремились, чего хотели добиться своим аскетичным и немного сумбурным образом жизни, я не понимал ничего из того, о чем мне говорили, потому что я не имел никакого, даже подобного этому, знания, не имел никакой уверенности в словах этого человека; именно поэтому я, сотни раз боясь его прервать или расстроить, разозлить, все же, в один из перерывов его бесконечной тирады слов, осмелился спросить его о происхождении их учения. Да, именно учения, ни секты, каких было миллион за историю существования человечества, – они никому не навязывали своего мнения, а жили отречено и тихо, никому не мешая и никого не преследуя; они не являлись адептами или шаманами, вождями или алчными фанатиками, – они были просто людьми, которые жили по своим, одним им известным законам мира, по одним и тем же постулатам, – они были обычными людьми, считавшими себя немного другими: не плохими и не хорошими – просто людьми, которые мыслили по-другому, по-своему.
– Таких было много, – стал рассказывать мне он; в его голосе слышалась тоска и печаль, – и, вообще-то, таких, как мы, изначально, на стыке эпох, было большинство. Ведь люди боялись, они боялись новшеств и неизвестного, как это бывало всегда, и именно поэтому огромное количество людей придерживалось в самом начале Великого пути определенного мнения по поводу всей этой суеты с идеализацией, с излечением любых болезней и дефектов, и даже, как некоторые говорили, с безбожничеством. Все начиналось просто и безобидно, без всяких фундаментальных посредничеств и идей: люди просто стремились познать вселенную, но познали они ее, конечно же, по-своему. Они решили, что они могут за годы, месяцы или недели исправить то, что формировалось миллионы лет, и чем дальше они узнавали о вселенной генома, тем больше им казалось, что они всесильны, что они по-настоящему могут вершить судьбы других, тем самым как будто бы помогая им. И, естественно, чем больше ученые узнавали и чем больше пробовали, чем дальше продвигались в новой тогда еще для них научной сфере, тем больше они понимали. В этом для них заключался потенциал, который способен изменить на корню весь мир раз и навсегда. И чем больше проходило времени с момента, пожалуй, самого важного открытия прошлого века, чем больше люди привыкали к возможной жизни без тягот и забот, тем больше и больше людей становилось сторонниками такой беззаботной жизни. Чьи-то дети были больны – родители считали гуманнее и правильнее помочь им в раннем детстве, когда те не испытывали тягостей из-за родительской ошибки или ошибки природной, и все же именно в руках родителей обратившейся фатальной катастрофой; кто-то больше не мог справляться с болезнью своих близких или своей болезнью, из-за которой дети или один из супругов могли лишиться родных – они тоже решались на радикальные меры в своей непростой жизни; кто-то просто хотел испробовать что-то новое, а кто-то считал это просто забавой – все они стали остовом нового века, века бездумного отречения от своего прошлого, без надежд на сознательное будущее.
Слушать подобные вещи от человека, который говорил так бесстрастно, но самозабвенно, так странно для меня – было интересно и познавательно даже при том, что ничего нового я пока практически не узнал, кроме нескольких очень важных аспектов. Я продолжал слушать с некоторым упоением; и хотя я все еще нервничал, хотя я чувствовал себя немного некомфортно в текущей обстановке, я начинал привыкать к этому чувству, я начинал понимать намного больше, чем хотел понять изначально, я начинал осмысленно рассуждать над вещами, которые в голове моей формировали образы, которые были мне чужды и незнакомы, образы, о существовании которых я даже и не мог помыслить.
– Их было много, – продолжал он, – но со временем их идея стала меркнуть, да и людям стало уже не так важно, кто они и как они сложены, важно лишь то, как долго и как качественно они смогут прожить, а то, кем они являются на самом деле – лишь биологическими роботами, программой, заложенной в них кем-то, – им было уже безразлично.
В голове моей складывался образ о прошлом, как о действующем настоящем: в нем не было ничего противозаконного, безнаказанного: никаких идей, лишенных основания продолжать обреченное на безысходность мышление, не было массового насилия или любого другого проявления жестокости, совершенно чуждого нынешнему поколению и поколению предыдущему; никогда еще эти параллели не сталкивались и не проходили так близко в моем понимании обычных вещей: история и события, повлиявшие на ход этой самой истории, мелочи, которые в последствии стали настолько важными, колоссально важными, – все это так типично, и в нашем мире имеет свойство повторяться, имеет свои законы, почему-то неизученные и даже никем и никогда не затрагиваемые как с научной точки зрения, так и с повседневно-бытовой – никто не думал и не рассуждал над основами нашего мироздания, которые не принято замечать. И теперь время как будто бы не имело никакой константы и ничего не значило в общем смысле этого слова, как будто бы каждая секунда стала бесконечностью, где каждый миг можно проживать снова и снова, учась чему-то новому даже за пределами основополагающих для нас общественных и моральных законов, за пределы которых мы уже не привыкли выходить. И казалось, что он был прав… не во всем, но в чем-то – определенно.
– Все подчиняется определенным законам человеческих стремлений, – как будто бы читая мои мысли, говорил он, – все становится на свои места именно в тот момент, когда люди понимают, что риск получить отрицательный результат намного меньше, чем возможность жить беззаботно, счастливо и без всяческих негативных факторов. Все это просто: каждую из этих теорий можно продумать у себя в голове за доли секунды, имея при этом хоть какое-то пространственно-временное мышление, – но это все философия, не будем об этом. – Он глубоко вздохнул, все так же взглядом смотря за мою спину, порой фокусируясь на мне, но, тем не менее, не имея никакого желания делать это постоянно, и уж тем более ему совершенно не было нужды уделять моей персоне особое внимание; он говорил так, словно декламировал монолог; он продолжал: – И, в конце концов, что же движет нами, если не желание вечно жить и не стремление к лучшему из миров, к вечному блаженству на полумертвой Земле, возвышаясь над каждым из бедствующих, оскорбленных и униженных? И каждый думал, что он будет сильнее других, умнее и лучше, а если не он сам, то хотя бы его дети или дети его детей. И в этой агонии вечной алчности все мы пришли в итоге к смирению, к успокоению и жалости к другим, к новому проявлению альтруизма, но уже всеобщего и тоталитарного. Люди постепенно научились состраданию, в то время как наши предки это чувство активно в себе подавляли. Я не скажу, что это плохо: ведь во всеобщем равновесии глупо придерживаться каких-либо еще суждений, отрицающих очевидное, но, между тем, кто знает, к чему это может привести потом: к разрухе, инфантильности или изнеженности, к трудностям в преодолении излишнего самомнения в головах каждого из ныне живущих, в трудностях понимания простых истин, заложенных в каждом из людей, но не всегда понятых…
Я уже не боялся его как нечто мне неизвестное и непривычное, но мне становилось страшно от слов, которые он говорил, от слов, которые сами по себе ничего не значили, но вкупе приобретали вкус поражения в войне, которая уже шла в умах миллиардов, даже тогда, когда никто о ней не подозревал, не понимал, что все уже решено: с нашего рождения и до момента смерти. Мы были запрограммированы на лучшую из жизней, но выбирали ли мы ее сами, хотели ли мы такой жизни, когда родились, и могли ли хотеть чего-то другого при том, что не знали мира другого – мира столь неясного и нечеткого, что от одного, даже самого незначительного отклонения от «нормы», бросало в дрожь? Хотели мы жить так, как нам якобы суждено теперь проживать свои жизни, являясь частью истории: без всяких забот и тягот, без пугающей неизвестности, витиеватой и трагически сложной, хотели ли мы прожить ее без случайностей и разочарований, следующих за каждым из нас по пятам, но не имеющих возможность добраться так близко, чтобы изменить нашу жизнь? Я уже не боялся ничего, полностью растворяясь в словах говорившего.
– Грядут великие перемены: скоро люди наконец-то поймут, что это неконтролируемый поток безумия, что безграничный потенциал, которой приведет нас к гибели, есть не что иное как иллюзия, и тогда придется ограничивать это стремление обуздать невозможное. Но также, как и когда-то психоделические вещества были исключительно медицинскими препаратами, – пойдя в массы, они стали бичом прогрессивного мира, – так и теперь эти стремления обуздать человеческий организм остановить уже будет невозможно. Невозможно станет просто так контролировать человеческое стремление подчинить себе невозможное, невозможно станет тягаться с алчностью, которая, казалось бы, давным-давно исчезла из умов обывателей, но, между тем, она не просто не исчезла, – она дремлет, ожидая своего коронного часа, чтобы снова стать причиной глобального истребления… И, в общем-то, я не могу ручаться, что все будет именно так, – повысив тембр голоса, сказал мужчина, – я не могу также ручаться, что все сказанное мной – правда или единственная правильная, праведная истина – кончено, нет, – но все происходящие процессы я вижу именно так… мы их видим именно так, не обольщаясь и не считая, что мир уже навсегда обречен стать невероятным местом, без болезней, боли, страданий, страха и тому подобных вещей. Ведь меняя геном, мы лишь только подгоняем друг друга под определенный идеал – всех под один, один, который идеалом-то, по сути, не является, но только есть какая-то заоблачная фантазия, невидимая и неощутимая, – и куда мы стремимся, куда? К каким невероятным вселенным мы хотим идти, к каким невозможным встречам и осознанным случайностям, что как будто бы могут сделать нас сильнее, умнее или лучше?
«Какая невероятная сила в его словах, – думалось мне. – И пускай это все, быть может, на самом-то деле не правда, пускай это все выдумки человека, не способного понять формулу эстетики, формулу основных физических и биологических, социальных законов, но все же, но все же не это ли и является способностью ценить все существующее с другой точки зрения: с особой и мало кому понятной? Разве не в ошибках мы находим ключ к разгадке неразрешимых проблем, – не об этом ли он сам мне и рассказывал? Он не похож на человека, который готовится умирать, который вообще хоть как-то болен, и при всем при том, что он, вероятно, на самом деле обречен каждый день испытывать боль и сострадание, жалость от своих друзей, – ему доступно познание намного более великое, чем все, что я учил и все, что я знаю. Тогда не в смерти ли заключается стремление успеть как можно больше: успеть попробовать столько вкусов, вдохнуть столько ароматов, полюбить столько людей вокруг, понять столько мыслей, – нет, не отчаиваться скорой погибели, но осознанно идти на риск быть съеденным жизнью в обмен на грандиозное познание всего вокруг: вещей, оставленных невзначай, людей, встреченных случайно по пути домой, цветов, выращенных специально для каждого из нас, вопреки их типичной незаметности в гуще перипетий, любви, настоящей, неподдельной, которую даже в наши беспечные времена не удается сохранять так долго, как хотелось бы. Какая суть вещей раскрывается в его поникших глазах, какая философия слетает с его уст».
А мужчина, между тем, все говорил, и говорил, и говорил, останавливаясь лишь затем, чтобы дать себе возможность отдохнуть и собраться с мыслями для дальнейшей борьбы как с самим собой, так и с силами ему неподвластными. Он говорил о многом и многие темы затрагивал еще, но самое важное он уже сказал, донес до вдохновленного его словами слушателя, если не примкнувшего в сплочённые ряды натуралистов, то хотя бы открывшего для себя нечто новое – большего ему и не требовалось. Он уже повторялся, но в его словах до сих пор проскакивали умные, почти гениальные мысли, не лишенные смысла:
– Мы то, что мы творим и как думаем; мы – воплощение своих мыслей, но под углом зрения других, незнакомых нам людей, заинтересованных в разговорах с нами, часами напролет слушающих как будто бы бесконечно умные и страстные речи, на самом же деле являющимися таковыми только потому, что они не лишены смысла. Мы не должны становиться одинаковыми, потому что только в наших разногласиях мы так интересны и необычны, потому что только в спорах мы показываем, кто и что мы есть на самом деле: мы показываем самих себя по-настоящему. И пускай мы глупые и необразованные, пускай мы знаем не так много и не во всех сферах можем достичь таких невероятных успехов, каких с легкостью достигаете вы, даже не представляя, какою ценностью располагаете, пускай, но в этой глупости мы так наивны и прекрасны, как не прекрасен ни один из вас, как несовершенен ни один из известных тебе людей. Я не принижаю ваших достоинств – да, вы чудесны, отвратительно-чудесны, вы можете спасти миллионы жизней в одночасье, вы – сама панацея этой гиблой среды под названием «современность», но надо знать, где остановиться, надо знать, где та грань, разделяющая самосознание от необратимости вечного стремления достичь невозможного, – я не пытаюсь растоптать вашу значимость в эпопее современных хроник, я также не хочу никак одобрять все то, что происходит, но, между тем, я рад, что не имею никакого отношения к тем людям, которые разучились обычным для человека животным страстям, животным чувствам, которые когда-то сделали из нас человека разумного. И ты, мой друг… – и говоря эти слова, он практически перешел на шепот, а после того, как их произнес, и вовсе смолк. – Мы не должны менять своего мнения только потому, что так нам подсказывают наши чувства, наши желания или мысли, – вовсе нет! – мы должны принимать решения только тогда, когда они уже давным-давно сформированы в нас самих – и, по сути, мы не принимаем решения, мы просто открываем для себя то, что уже было в нас давным-давно заложено, то, что итак в нас самих всегда было…
В воздухе теперь витало столько вкусов и привкусов, столько полутонов неслышимых ранее звуков, столько сакральных мыслей, которые непременно надо было уловить, которые просто необходимо было понять и разжевать, проглатывая целиком; в воздухе витали идеи, ранее мне неизвестные и не несущие собой ничего, кроме равнодушия и скуки; в воздухе витал трогательный минор упущенных мгновений весны, в которую я думал о неразрешимых теориях вселенной, в конце концов, так ни к чему не придя, напрасно потеряв так много: заснеженные пустыни и жаркие микроклиматы в различных частях планеты и материках, одинокие песни в громадных консерваториях мира, тонущие в переизбытке какофонии и несуразных звуках, лишенных такта и ритмичности. Мне казалось, что я потерял все, я все упустил и напрасно расторговал, взамен получая так мало, и в этих мелочах не находя ничего стоящего вплоть до этой секунды, – теперь я научился жить, я научился мечтать. Я понял, что впереди еще слишком много времени, и за это время я успею сделать все, что захочу, но поймав себя на этой мысли, я осознал, что имея так много времени, я так мало хочу. Когда есть бесконечность впереди, зачем делать все сейчас? зачем стремиться к обыденному, если на это еще есть вся жизнь, которая именно тем и ценна: сиюсекундными рвениями почувствовать то, что никому неизвестно.
– Мы то, что мы творим и как думаем; мы – воплощение своих мыслей, но под углом зрения других, незнакомых нам людей, заинтересованных в разговорах с нами, часами напролет слушающие как будто бы бесконечно умные и страстные речи, на самом же деле являющиеся таковыми только потому, что они не лишены смысла.
Нам дано так много теперь, но также много оставлено без внимания. Нам суждено жить и любить так быстро и так смело; но под напором бесконечно долгой индифферентности к мелочам, нам кажется, что все еще успеется и, конечно, не сейчас. Нам суждено лишь напоследок полакомиться сущностью вещей, навсегда теряясь в вариациях возможностей, в сущности, ничего не значащих… Как странно, что все зная и все имея у себя в голове – миллионы смыслов и толков, объяснений и понятий, – нам неподвластно на самом деле оценить богатство души и сакральных, интимных помыслов, сидящих в нас. Нам предначертано было развиваться, и в этом развитии видеть смысл своих деяний, но вместо сумеречных надежд на необратимость вечной цикличности нам, очевидно, суждено теперь не обращать внимания ни на что, кроме самих себя… Нам не суждено теперь жить мечтами, которые настолько невероятны, что попросту несбыточны – нам просто теперь не к чему стремиться, имея под рукой все необходимое, все, что требуется для исполнения прихотей и желаний… нам не к чему идти…
И человек, потерявший, кажется, все, потерявший бесценное время своей жизни, – он обрел намного больше, чем потерял: он обрел знание, которое не дано понять «небожителям», которое не понять людям, за своей вечной занятостью забывших настоящую ценность времени…
– Мы то, что мы творим и как мы думаем. Мы то, как мы ценим мгновения бесцельно прожитой жизни, но главное – части ее осмысленной…
Покидая мужчину, забитого в уголок и ни при каких условиях не желавшего этот уголок оставлять, – уходя из этого места, наверное, навсегда, шагая маленькими шажками по истрепанному и истертому полу, мне казалось, что в каждом из этих мгновений есть свой смысл, особый, никому, кроме меня, неведомый, недоступный. А сейчас, сейчас мне хотелось снова попасть в привычную для меня атмосферу спокойствия и защищенности, где бы я мог обдумать все услышанное и увиденное за последнее время.
Проходя мимо открытых дверей я мельком заглядывался на никудышную обстановку и совсем несочетающиеся между собой вещи интерьера, но теперь мне казалось, что и в этом есть особый смысл, что и в этом безвкусном нагромождении предметов есть что-то, что не поддается человеческой способности чувствовать, но на самом же деле все-таки является определенным искусством, определенной частью человеческой культуры, разрозненной в какофонии безликих симфоний давно уже погрязших в эпигонстве современников. Максимализм этой идеи, нетипичной идеи в стремлении быть уникальными, – он заключался как раз в том, что весь этот хлам не нес собой никакой ценности как вместе, так и по отдельности, – он просто был, и это надо было принять как данное; и смиряясь с этим, можно понять, что не обязательно все должно быть хоть как-то охарактеризовано, как-то осмыслено или объяснено, – все становилось очень простым и, чему не принято следовать в наше время, нелогичным: весь мир заключался в обычном хламе, нагромождённым среди комнаты, как будто бы одновременно портившим ее, но в то же время создающим в ее пределах свою ноосферу – область человеческой жизни, которая не является ничем, кроме хлама. Все это значило для этих людей, очевидно, не больше, чем для меня. Но в само?м воплощении каждодневной мысли о столь отвратительном, обычном, как о чем-то банальном и пустяковом, что даже не стоит этого замечать, – в этом они были прекрасны, в этом они превзошли логику и четкость мышления. Они в трезвом рассудке видели и мечтали, – о, конечно, мечтали, я уверен, что они могли мечтать именно из-за своей узколобости и недальновидности, – они мечтали о столь великом и грандиозном, о чем не мог и помыслить любой из нас даже в наркотическом бреду.
И уже выйдя из дома, я начал осознавать предназначение человека. Его предназначением было жить так, как хочется. Все эти люди – они жили так, как считали нужным, и при этом не навязывали свое мнение остальным; они знали, что все те, кто с ними солидарен, – они уже здесь, рядом с ними в этом небольшом квартале, затерянном среди огромного мегаполиса. Им оставалось жить не так долго, как нашей цивилизации; из-за своего упрямства они исчезнут намного раньше, чем могли бы, будь их мысли немного лояльнее к нам, а мышление немного более гибким. В своем несовершенстве они были прекрасны, но это не та эстетическая составляющая, подпитывающая наше современное общество, – это нечто иное. Глупцы, они променяли знания и блаженную жизнь на стремление к удовлетворению базовых потребностей, оправдывая это весьма сомнительными идеями. Прекрасные идея, но не для нашего века высоких технологий и быстроизменяющегося мира, где уже нет места слабости.
Александр Романович Бирюков
Недалекое будущее. Молодой человек узнает, что среди идеального общества, победившего болезни, голод, нищету, преступность и многое другое, общества, в котором люди привыкли, что любой изъян, любую генную ошибку можно изменить с помощью технологий, существует группа людей, живущая обособленно. Эти люди считают, что технологии несут вред: лишают людей их истинной сущности и естественных стремлений. Для молодого человека это мир чуждый, непривычный, но от этого не менее интересный и влекущий. Что же молодой человек узнает у них? Примет ли их точку зрения? Будет ли он после встречи с ними таким же, каким был раньше? Какое будущее ждет человечество?
Александр Бирюков
Современность
Я где-то слышал, что существует группа людей, которая до сих пор против вмешательства в естественный ход жизни человека. Да, в наше время до сих пор существует много различных конфессий, верований и сект, которые хотят казаться исключительными на фоне всеобщей однотипности – выделиться, так сказать. Но они, – про этих людей я слышу впервые и, честно говоря, мне стало очень интересно узнать про них немного больше, потому что в наше время знать все – это уже не такая из ряда вон выходящая способность, как это было еще у наших предков лет сто назад.
Они пропагандируют естественную и «неподдельную» жизнь среди нас – людей, которые претерпели достаточно сильные изменения своего организма, которые уже излечились от множества недугов с помощью генных усовершенствований, нас – людей, которые стали сильнее, умнее и совершеннее, чем наши предки, умиравшие от таких пустячных болезней как ВИЧ или рак. Эти люди не хотят, чтобы нарушалась естественная цепь событий, ведущая человечество к единственно правильному развитию, к природной, «слепой» эволюции. Но кто совершенен, если не мы?
Мне не составило особого труда найти то место, где жили эти люди. Большая коммуна единомышленников на краю огромного города, где под рукой было все необходимое: любая помощь, любая пища, даже маленькая порция которой удовлетворяла потребностям и насыщала организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, любые развлечения, любая информация, которая теперь доступна для всех и каждого во всех уголках мира – только попроси и тебе устроят блаженную жизнь, о которой мечтали многие на протяжении тысяч и тысяч лет, – но эти люди отрицали все блага, которые несет нам прогресс.
Стоя у входа в небольшое серое здание, которое не очень сильно выделялось от подобных ему строений по всему району – району, который был похож на резервацию, но, тем не менее, никак и никем не ограждался, ничем не отличался от разношерстных колоритных районов по всему мегалополису, где и жил я уже довольно долгое время, – стоя у входа в это здание мне, честно говоря, было немного страшно. Нет, я не боялся насилия или жестокости в свой адрес – эти чувства отсутствовали у меня по определению с самого рождения, но мне было немного непривычно видеть мир не таким, каким я привык его видеть. Мне казалось, что я видел все, я побывал в десятках тысяч районов и городов по всему земному шару: районы в стиле модерн, конструктивизм, ранняя псевдоготика, функционализм и метаболизм, колоритные улицы всех национальностей планеты, выстроенные с нуля, и такие же районы старых поселений, миниатюрных пирамид и восточных храмов, существовавших еще задолго до промышленной революции; я видел тысячи и тысячи домов в различных архитектурных решениях, задумках и планах, в свое время отвергнутых эпохами и их вождями – я знал каждую деталь в этих домах, я знал историю каждого из них, но сейчас, стоя перед серым и невзрачным многоэтажным домом в центре моего мегалополиса, ставшего мне по-настоящему родным, я не знал об этом строении, ровным счетом, ничего – такого я никогда не видел и не имел ни малейшего представления о его истории.
По улице бегали дети, играя в примитивные игры, кричали и резвились, словно отсталые – их необходимо было уже давно направить к врачам на обследования и не выпускать до тех пор, пока не будет выявлена причина их странного поведения. Но они до сих пор были на свободе, как животные в постиндустриальную эпоху. Детей было мало, намного меньше, чем на крупных площадках современных, только-только застроенных пространств.
Открывая стеклянную матовую дверь, я пропустил выходившую из дома женщину. На мгновение мы встретились с ней глазами – уставший взгляд в серых хрусталиках, окантованных изумрудной россыпью; «напрасная и бессмысленная жизнь в оковах “настоящей”, “неподдельной” жизни», – подумал я, еще не привыкнув к вялотекущему движению ее ног и шелесту ее платья. Через несколько секунд мне уже стало их не хватать – за мной закрылась дверь, я остался один. Я видел в этих глазах целый мир, но другой, совершенно другой, который я не мог понять, не мог понять даже при том, что я знал ровно столько, сколько мог усвоить за свою недолгую жизнь: миллионы тонн бумажной информации и миллионы экзабайт знаний, которые хранились во всемирной сети. Что же хранилось в голове у нее? Что она могла знать, смотря на меня такими обреченными глазами, полными усталости, рутины и безропотного спокойствия, не приносящего никакого удовлетворения? Она была изнурена, она была стара, физически стара – именно так мне и рассказывали об этих людях, живущих по своим законам и своим правилам. В первую очередь их отличала сухость кожи, огромное количество складок и морщин, бледность – это то, что сразу же бросалась в глаза; ее волосы были спутаны и неказисты.
Она прошла, оставив после себя не очень неприятный запах: запах пота и пережаренной – пережаренной! не просто подогретой, как это делают некоторые, а именно пережаренной – пищи. Еще мне казалось, что я уловил запах слез, совсем недавно высохших на ее щеках и в уголках глаз. Это было удивительно и непривычно для меня; мое сердце стало биться немного быстрее от полученного количества информации, которая была для меня совершенно нова, – она не могла ужиться со всем тем, что я знал и чувствовал за все эти годы. И я задался вопросом: а правильно ли все то, что я чувствовал? правильно ли все то, что я знал?
Я стал подниматься по лестнице на нужный мне этаж к человеку, который, по рассказам, мог помочь получить ответы на интересующие меня вопросы; но сейчас, когда я оказался здесь, мне стало чуждо все то, что я знал. Я забыл все то, что я хотел спросить, и теперь я просто шел на нужный мне этаж без всякого плана, без всякой идеи – наверное, именно поэтому мне сказали, что здесь можно испытать то, что нигде и никогда я раньше не испытывал.
Они оказались правы. Лестница была такая же серая, как и цвет дома: осенне-пепельная с множеством темно-серых вкраплений. С каждой платформы между этажами, на которых я останавливался, чтобы перевести дыхание, открывался прекрасный вид на окрестности, и чем выше я поднимался, тем красивее становилось… не то, чтобы красивее, скорее, необычнее. Я видел множество панорам с высоты птичьего полеты и даже выше, намного выше, но сейчас с высоты двенадцатого этажа я видел то, что заставляло меня забыть все полеты в пределах стратосферы, я видел разруху и нищету, но, как бы это было ни странно, только физическую, никак не ментальную, научную или духовную, – по всей видимости, люди, живущие здесь, считали свои достижения на порядок выше, чем достижения всей цивилизации в целом.
Дойдя почти до предпоследнего этажа, я понял, что достиг желанной цели. За обычной металлической дверью, чистой на вид, тихо и монотонно скрипящей, оказался большой и длинный коридор. По сторонам коридора располагались металлические грузные двери, некоторые из которых были слегка приотворены. Из-за дверей доносились громкие детские крики; но за всеобщей давящей тишиной эти звуки растворялись, после чего тихое эхо еще раз доносилось до моих ушей, а затем наступали секунды, когда ничего нельзя было услышать, кроме едва различимых постукиваний с той стороны дверей, где еще недавно был слышен детский гул. Странные диалекты слышались мне в этих детских голосах, и хотя я знал свыше пяти тысяч диалектов и мог в любую секунду адаптировать полтораста языков, я не мог узнать в этих голосах, кричащих какие-то совсем наивные и по-детски забавные ругательства, ничего такого, что бы я мог понять наверняка, – только косвенно я мог сопоставить то, что я знаю, с тем, что я слышал. Я знал этот язык – он был мне родным и, кажется, без всякого сквернословия и ненужных шипящих согласных или мычащих гласных не было ничего такого, что могло бы смутить меня, но все же я не понимал, как мог на этом континенте существовать диалект, который был таким непритязательным и странным. И эти двери – они тоже сильно удивили меня, – они ненастоящие, нет! Это все просто декорации к новому фильму, где героям нужно жить по-особенному, чтобы прочувствовать на своей шкуре, что есть такое их роль. Это казалось невозможным: как будто контролируемый сон, где можно сформировать свой мир, лишенный права на ошибки, – такие сны видели все, отчего они потеряли свою многогранность и индивидуальность, они потеряли свою структуру неординарности. И если когда-то люди могли видеть свои собственные сны, теперь каждый из нас видел одно и то же, – эстетический дефект, заключавшийся в однообразии; жертва, принесенная в угоду совершенству.
Тихо отворив металлическую дверь, я попал в следующий коридор, подобный тому, в котором я только что был, но только по сторонам этого коридора было намного больше дверей: таких же железных и таких же холодных. Некоторые двери были распахнуты настежь; между квартирами бегали дети, голоса и крики которых я слышал еще задолго до того, как нашел источник шума. Мне казалось, что все это место похоже именно на муравейник, на тот самый муравейник, о котором нам рассказывали в школе и который, честно говоря, я никогда в жизни не видел, но то, что я представлял его подобным образом, слушая в школе о большой колонии маленьких существ, – это было совершенно точно так. Я так привык к размеренной жизни в уединении, в постоянной тишине и отсутствии угнетающего, долгого контакта – как вербального, так и физического – с людьми, что теперь испытывал сильный дискомфорт от слышимого шума и постоянного мельтешения детей перед собой.
Когда я подошел ближе, дети, увидев меня, остановились. Они рассматривали меня; оценивая взглядом, они простояли так довольно долгое время, после чего снова стали бегать и кричать что-то свое: наивно-детское. Я успел заметить в руках маленькой девочки игрушку, старую и с ног до головы грязную. Этой игрушке, наверное, было не меньше пяти лет, а, может быть, даже и больше – никто не держал у себя дома вещей, будь то предметы быта, электроника или картины, окна, настенные покрытия, больше двух лет – это было моветоном, а эта маленькая девочка вцепилась в эту игрушку так крепко, что можно было подумать это была ее единственная игрушка на всем белом свете. И когда я пошел дальше по коридору, мне посчастливилось мельком глянуть туда, куда только что забежали дети. В этих квартирах, которые были просто большими и заполненными всяким хламом комнатами, было идеально чисто, и даже нагромождение всякого хлама не казалось скопищем мусора – все стояло ровно на своих местах, очевидно, отведенных для этого, хотя от количества маленькой утвари в небольшом помещении пестрило в глазах.
Меня обуревали непривычные, неизвестные мне ранее чувства; сложно сказать, что я испытывал сильнее: тошноту и отвращение от всего здесь происходящего, от странных, порочных лиц, их мимики, возгласов и действий, или же невероятное, неописуемое счастье от неизведанного, – я был здесь словно первооткрыватель, нашедший племена, неизвестные Старому Свету. Я чувствовал себя отвратительно, но, вместе с тем, невероятно – все это чередовалось между собой, а порой сливалось в одно сумбурное чувство, захватывающее все тело целиком, захватывающее и сковывающее голову. На секунду я терялся и мне становилось совершенно все равно, что и сколько я всего знаю, сколько я видел за свою жизнь: людей, мест, сколько я слышал и знал текстов песен, сколько знал созвучий и воплощений музыкальных дилемм в форме каденции и абсолютной дисгармонии, сколько обертонов соскакивало с гитарных струн в консерваториях; мне стало все равно: умру ли я или буду жить вечно. Но это ощущение продолжалось секунды, а после я взял себя в руки, терзаемый сомнениями: а нужно ли мне все-таки продолжать идти, продолжать двигаться вперед, узнавая нечто сокровенное? Я шел дальше, не представляя, что спрашивать у человека, к которому я направлялся, не представляя, что ждет меня впереди и как это отразится на моем и без того подорванном душевном состоянии. Такого, я считал, невозможно испытать нигде; в любой точке планеты, с любым багажом знаний и любой подготовкой – нельзя было прочувствовать таких смешанных эмоций, какие я получил и получаю до сих пор здесь. Кажется, видеть своими глазами прошлое, видеть своими глазами декаданс и стагнацию, воплощенную в людях, их идеях и мыслях – все это казалось таким… таким нереальным, таким жутким, но так же, в какой-то мере, и прекрасным, – я очутился в мире, где нет для нас – людей, не знающих страданий и неприязни, ненависти и боли – привычных положений и устоев. Все эти чувства поглощали меня целиком, и это при том, что я все еще даже не контактировал с ними.
Подойдя к нужной мне двери – одной из бесконечного множества дверей, – я на секунду остановился. Почему я это сделал? разве не должен был я безотлагательно сделать то, что намеревался изначально? что пугало меня, что теперь расслаивало мои решения на пласты сомнений и нерешительности? Как странно, что я остановился, и это стало меня угнетать, да, уже угнетать: я чувствовал себя не в своей тарелке, не в своей миске, плошке и блюдце, но дело не в семантике моего чувства, а в том, что оно вообще есть, что оно существует теперь. Я не испытывал таких чувств даже тогда, когда принимал психоделические вещества, даже тогда, когда один раз в своей жизни подрался! – о как же это было глупо и неэтично, несовременно; какое отвращение я испытываю, когда осознаю, что даже сейчас человек не может оградить себя от насилия, – смятение и тошнота – это все, что осталось от привычного мне спокойствия. Как будто в генах осталось что-то от нашей животной сущности, и сейчас, в этом месте, они пробудились, проснулись от долго сна, и мне было страшно, очень страшно.
Все же я решился: я открыл дверь, чтобы понять, чтобы узнать нечто новое, ведь знания для меня всегда стояли на первом месте, а узнать то, чего не знает почти никто, – это так заманчиво и соблазнительно. Но внутри, к моему удивлению, никого не оказалось, только нагромождение мебели и статуэток, миниатюрных фигурок разного дизайна и цвета, совсем не сочетавшихся друг с другом – такая эклектика резала глаз, но, по всей видимости, только мой. В комнате стояло множество белых ваз с большими крепкими деревьями внутри них, чьи продолговатые острые листья свисали почти наполовину всей высоты ствола; длинный плоский изогнутый телевизор стоял в нише белого шкафа с множеством стекол, которые, увеличивали пространство первой комнаты, но уродовали ее тем, что размножали захламление и огромное количество ненужных вещей; у правой стены стоял высокий диван с бежевой спинкой и подушками, каркас был сделан из дерева, покрытый темно-коричневой краской, а под диваном лежал ковер, аккуратный черный ковер без веревочек и шнуров – просто черный ковер, плотный и немного заляпанный чем-то белым в правом нижнем углу, у самой ножки дивана; пол был гладкий и белый, покрытый лаком или эмалью. Робко стукнув несколько раз в дверь с внутренней стороны, а потом еще и еще, я ждал какого-либо отклика на мой едва слышимый зов, но ничего не произошло, – теперь мне казалось, что в тишине до сих пор висит тяжелый и гулкий звук стука, который до сих пор витает в пространстве. Никого не было в квартире, совсем никого.
И хотя мне стало легче от того, что мне не придется теперь общаться и ничего спрашивать у незнакомца, к которому у меня пролегал путь до этой секунды, я все же был немного расстроен: удовлетворен проделанным путем, но не доволен тем, что зашел не так далеко, как хотел. Словно боясь обжечься еще больше, я хотел убежать, уйти, уплыть, упорхнуть, – словом, сделать все, чтобы как можно скорее убраться отсюда, но я не мог не пройти в конец этого длинного коридора, потому что там, в конце, виднелось огромное панорамное окно и часть лоджии, с которой открывался вид на огромную территорию близлежащих мест. Я пошел туда, ведомый неизвестной силой. Я пошел туда только потому, что мне больше нечего терять, да и, в принципе, мне и так было нечего терять на самом деле, но я знал, что причиной моему ярому стремлению было сидевшее глубоко внутри желание все же найти того самого человека, с которым я хотел поговорить, у которого я хотел так много узнать, тем более, сейчас.
Слева от панорамного окна располагался кухонный гарнитур и небольшие шкафы, по той же схеме висящие над столами; справа – три дивана такого же стиля и цвета, как и в комнате, в которой я был совсем недавно, продольный кофейный столик на очень маленьких металлических ножках, отчего он почти что касался брюхом пола, и в два раза больше этого столика ковер, придавленный этими самыми ножками конической формы, сужающимися ближе к самому полу; по комнате лежало много мягких кресло-мешков; в углу, куда и были направлены кресло-мешки, висел телевизор. Здесь везде царило одиночество, на фоне которого было так много людей (которых сейчас не было; только дети резвились за спиной, перебегая из квартиры в квартиру), которые своим присутствием разрушали всю подноготную, едва заметную атмосферу уютной безропотности и тишины.
Я подошел к кухонному гарнитуру, положил руку на лакированную поверхность, а потом пошел вдоль кухонной столешницы, рукой скользя по гладкому покрытию, на котором изредка встречались крошки или жирные пятна, от которых пальцы начинали скользить немного быстрее. Это было пространство для отдыха и общения, но сейчас тут никого не было, совсем никого, с кем можно было бы поболтать и даже с кем хотелось бы поболтать в таком большом, ограниченном прозрачными стенами и стенами невзрачными, которые примыкали к соседним квартирам, спрятанным в тесноте огромного коридора, помещении. От моих мягких, почти что воздушных и обычно неслышимых шагов, под покрытием пола что-то скрипело, или даже шипело, но только несколько раз, когда я проходил иссиня-черный кофейный аппарат, расположенный посередине гарнитура. И, о чудо, когда я подошел к самому краю столешницы, когда дальше уже, казалось, быть ничего не может, следом за ней оказалась небольшая ниша, где на кресло-мешке сидел мужчина, свернувшись клубком и обхватив себя левой рукой за колени, правую спрятав за поясницу; и когда я подошел к нему совсем вплотную, он преобразился на мгновение, раскрыл широко глаза, изучая меня, а потом снова свернулся в клубок, вдавился в мягкий наполнитель кресло-мешка и стал глупо смотреть себе под ноги, глубоко вдыхая спертый и сухой воздух.
Меня удивило, что в лоджии все-таки кто-то есть, потому что все это время я так беспардонно шлялся по территории мне не принадлежавшей и даже не считавшейся общественной в привычном для меня понимании.
– Извините меня, – сказал я, оправдываясь больше перед собой, чем перед мужчиной, совсем не обращавшим на мои слова внимания.
Мое сердце начало учащенно колотиться, и раз я уже начал разговаривать с незнакомцем, я решил рискнуть и продолжил с ним разговор. Я решил узнать у него, не знает ли он человека, живущего в той квартире, куда я недавно заходил, чтобы услышать ответы на интересующие меня вопросы. Мужчина сказал, что этот самый человек – он. У нас завязался разговор; притащив кресло-мешок из центра лоджии и сев рядом с мужчиной, я заинтересованно слушал.
В начале нашего диалога я много спрашивал, но потом в этом совсем пропала необходимость, потому что мой визави и так стал говорить беспрерывно. Он говорил о вещах, которые захватывали меня с головой, которые казались мне настолько дикими и нетривиальными, что я просто сидел, разинув рот, и слушал, не прерывая его.
– Вспомни великих ученых, писателей, спортсменов того времени – все они были гениальны по-своему, все они были больны в той или иной степени, все они казались нам невероятно умными… а теперь мы можем просто пожелать особый ген, сказать врачам, чтобы они наделили наших детей особенными способностями, и ни нам, ни им просто не надо ни к чему стремиться – они не смышлёные, они просто умные. Но пойми: они не могут выйти за рамки устоявшихся представлений о мире, – да они знают все, но лишь в тех областях, которые освоило человечество за все эти годы. Они не гениальны, – они глупы. Только ошибками можно по-настоящему что-то сотворить, создать. – Его руки были неестественно скручены, вогнуты внутрь, словно он специально поджимал кисти, чтобы не выпячивать пальцы наружу, в чуждую ему среду. Всем своим видом он показывал, что ему неприятно находится рядом со мной, но, тем не менее, он продолжал говорить. Словно ребенок, он обжимал себя руками, а порой, расплетая их, начинал тереть ладонями плечи и ноги, как будто ему было очень холодно. – Ваше будущее пугающе-прекрасно, но станет ли оно таким, каким вы его видите сейчас: безоблачным, светлым? будет ли оно столь радужным и прекрасным без всяких забот и терзаний, без смертей и болезней, если вы даже теперь не знаете, что такое жизнь… что такое настоящая жизнь! Двести тысяч лет человечество формировалось на боли и на страданиях, естественном отборе, если вам так угодно, и именно поэтому мы сейчас живы, потому что мы приспособились, выжили в дичайших условиях текущего времени. Да, мои родители тоже имели иммунитет к некоторым заболеваниям и еще улучшенный метаболизм у отца, и повышенная стойкость к холодам и жаре у матери, но имея все это, они понимали, что живется им не только не лучше, но и намного, намного хуже, и именно поэтому они не захотели, чтобы я был чем-то искусственным или «полуживым». Да, они обрекли меня на смерть, но я бы мог избежать этой смерти уже сотни тысяч раз; но зачем мне это делать? Я не хочу так жить, потому что я верю, что в первую очередь мы сами вершим свою судьбу и сами решаем, что правильно, а что нет, и я считаю, что если мне было суждено стать больным, то, значит, так тому и быть – значит, я слаб и не должен продолжать жить, изменяя свой организм, обманывая все эти тысячи и тысячи лет человеческим достижением; я считаю, что теперь никто из вас не способен продолжать свое существование как вид. Как клон – да, а как вид – совсем нет… Звучит, конечно, смешно, но у меня каким-то образом проявилась гемофилия, переданная мне моими предками, а несколько лет назад у меня обнаружили рак. – Он был весь исцарапан и изрезан, его руки были покрыты толстыми рубцами. – И теперь я знаю, я точно знаю, что не проживу долго, но я не имею никакого страха – он не властен надо мной, – но только жизнь… остаток жизни, полной надежд и напрасных сожалений. Я мог бы за два дня избавиться от любой болезни на свете, по крайней мере, от большинства из них, но зачем? зачем мне бесконечно долгая жизнь, если я так глуп, чтобы иметь хоть что-нибудь про запас: время, силы, чувства. Вы такие умные, но вы не понимаете, что такое настоящая, натуральная и неподдельная жизнь, – после этого он приумолк.
Я действительно только сейчас смог осознать, что такое жизнь, что живя по инерции все эти годы, зная о философии разных эпох, зная рассуждения и мысли великих гениев, я ничего, по-настоящему ничего не понимаю в разделах, которые они изучали и над которыми они столько думали – для меня это все было только знание, но не понимание всего этого. Только прочувствовав, пропустив через себя что-то, можно изучить или хотя бы отдаленно понять, уловить суть. И сейчас, сейчас я, даже несмотря на столь огромное количество информации, мало что мог выявить для себя с точки зрения осознанности, но так много почувствовать – да, я чувствовал смятение и животрепещущий накал страстей, разрывавших меня изнутри, но вместе со всем этим приходило умиротворение, спокойствие и четкость мышления, утонченность обыденной мысли, никак меня не трогавшей ранее, – совсем, совсем не трогавшей, – блаженный страх перед неизведанным.
Я продолжал слушать:
– Но если мы станем совершенны, – говорил мужчина, – то будем ли мы действительно «совершенными»? ведь существует столько измерений, разумных форм жизни, непохожих на нас, столько неизвестного – того, что мы просто пока не можем понять, осознать; и, может быть, совершенство для нас сейчас – это изъян в будущем, может, это просто ненужная мутация, которая станет ящиком Пандоры для всего человечества в целом? И кто может гарантировать нам, что все это не превратится в фарс через десять – двадцать лет?
Он еще рассказывал и рассказывал о, как он сам считал, негативных последствиях вмешательства в жизнь человека и, в частности, ребенка, который еще не может сам решить, что он хочет и что ему действительно нужно в его жизни – все было уже предпринято задолго до его рождения, и в этом заключалось основное противоречие. Но он говорил не только о плохом, как ярый фанатик, отрицающий все, что он не понимает, – он говорил так же и о том, что было естественно и, с точки зрения морали и эстетической составляющей, правильно: о лечении болезней, о самом настоящем исцелении генофонда и его улучшении, использовании лекарств и процедур, – но даже говоря об этом осознанно и обдуманно, он не принимал этого и не хотел, чтобы это вошло в его жизнь или в жизнь кого-нибудь из его близких друзей или знакомых, которые жили совсем рядом, в соседних комнатах, этажах или зданиях. Его мир превратился в обособленную организацию, где не существует страха боли, страха смерти или непонятной, давящей скуки от бесконечного непонимания жизненного цикла – он понимал все слишком хорошо, хотя и не так обширно, как это понимал я, но, между тем, мне казалось, что он знает намного больше меня – понимает намного больше меня, несмотря на наши явные различия в мышлении и количестве знаний. Он говорил безостановочно, но порой замолкал, смотрел на меня исподтишка, словно пытался убедиться в том, понимаю ли я хотя бы толику его слов; его поникший, больной взгляд блуждал не только по мне, но и где-то за пределами места, где я находился, и мне казалось, будто за моей спиной ходят призраки, а он смотрит за их движениями, учась у них сомнамбулической способности не замечать ничего вокруг.
Я не знал ровным счетом ничего про то, кем являлись эти люди на самом деле, о чем они думали и к чему стремились, чего хотели добиться своим аскетичным и немного сумбурным образом жизни, я не понимал ничего из того, о чем мне говорили, потому что я не имел никакого, даже подобного этому, знания, не имел никакой уверенности в словах этого человека; именно поэтому я, сотни раз боясь его прервать или расстроить, разозлить, все же, в один из перерывов его бесконечной тирады слов, осмелился спросить его о происхождении их учения. Да, именно учения, ни секты, каких было миллион за историю существования человечества, – они никому не навязывали своего мнения, а жили отречено и тихо, никому не мешая и никого не преследуя; они не являлись адептами или шаманами, вождями или алчными фанатиками, – они были просто людьми, которые жили по своим, одним им известным законам мира, по одним и тем же постулатам, – они были обычными людьми, считавшими себя немного другими: не плохими и не хорошими – просто людьми, которые мыслили по-другому, по-своему.
– Таких было много, – стал рассказывать мне он; в его голосе слышалась тоска и печаль, – и, вообще-то, таких, как мы, изначально, на стыке эпох, было большинство. Ведь люди боялись, они боялись новшеств и неизвестного, как это бывало всегда, и именно поэтому огромное количество людей придерживалось в самом начале Великого пути определенного мнения по поводу всей этой суеты с идеализацией, с излечением любых болезней и дефектов, и даже, как некоторые говорили, с безбожничеством. Все начиналось просто и безобидно, без всяких фундаментальных посредничеств и идей: люди просто стремились познать вселенную, но познали они ее, конечно же, по-своему. Они решили, что они могут за годы, месяцы или недели исправить то, что формировалось миллионы лет, и чем дальше они узнавали о вселенной генома, тем больше им казалось, что они всесильны, что они по-настоящему могут вершить судьбы других, тем самым как будто бы помогая им. И, естественно, чем больше ученые узнавали и чем больше пробовали, чем дальше продвигались в новой тогда еще для них научной сфере, тем больше они понимали. В этом для них заключался потенциал, который способен изменить на корню весь мир раз и навсегда. И чем больше проходило времени с момента, пожалуй, самого важного открытия прошлого века, чем больше люди привыкали к возможной жизни без тягот и забот, тем больше и больше людей становилось сторонниками такой беззаботной жизни. Чьи-то дети были больны – родители считали гуманнее и правильнее помочь им в раннем детстве, когда те не испытывали тягостей из-за родительской ошибки или ошибки природной, и все же именно в руках родителей обратившейся фатальной катастрофой; кто-то больше не мог справляться с болезнью своих близких или своей болезнью, из-за которой дети или один из супругов могли лишиться родных – они тоже решались на радикальные меры в своей непростой жизни; кто-то просто хотел испробовать что-то новое, а кто-то считал это просто забавой – все они стали остовом нового века, века бездумного отречения от своего прошлого, без надежд на сознательное будущее.
Слушать подобные вещи от человека, который говорил так бесстрастно, но самозабвенно, так странно для меня – было интересно и познавательно даже при том, что ничего нового я пока практически не узнал, кроме нескольких очень важных аспектов. Я продолжал слушать с некоторым упоением; и хотя я все еще нервничал, хотя я чувствовал себя немного некомфортно в текущей обстановке, я начинал привыкать к этому чувству, я начинал понимать намного больше, чем хотел понять изначально, я начинал осмысленно рассуждать над вещами, которые в голове моей формировали образы, которые были мне чужды и незнакомы, образы, о существовании которых я даже и не мог помыслить.
– Их было много, – продолжал он, – но со временем их идея стала меркнуть, да и людям стало уже не так важно, кто они и как они сложены, важно лишь то, как долго и как качественно они смогут прожить, а то, кем они являются на самом деле – лишь биологическими роботами, программой, заложенной в них кем-то, – им было уже безразлично.
В голове моей складывался образ о прошлом, как о действующем настоящем: в нем не было ничего противозаконного, безнаказанного: никаких идей, лишенных основания продолжать обреченное на безысходность мышление, не было массового насилия или любого другого проявления жестокости, совершенно чуждого нынешнему поколению и поколению предыдущему; никогда еще эти параллели не сталкивались и не проходили так близко в моем понимании обычных вещей: история и события, повлиявшие на ход этой самой истории, мелочи, которые в последствии стали настолько важными, колоссально важными, – все это так типично, и в нашем мире имеет свойство повторяться, имеет свои законы, почему-то неизученные и даже никем и никогда не затрагиваемые как с научной точки зрения, так и с повседневно-бытовой – никто не думал и не рассуждал над основами нашего мироздания, которые не принято замечать. И теперь время как будто бы не имело никакой константы и ничего не значило в общем смысле этого слова, как будто бы каждая секунда стала бесконечностью, где каждый миг можно проживать снова и снова, учась чему-то новому даже за пределами основополагающих для нас общественных и моральных законов, за пределы которых мы уже не привыкли выходить. И казалось, что он был прав… не во всем, но в чем-то – определенно.
– Все подчиняется определенным законам человеческих стремлений, – как будто бы читая мои мысли, говорил он, – все становится на свои места именно в тот момент, когда люди понимают, что риск получить отрицательный результат намного меньше, чем возможность жить беззаботно, счастливо и без всяческих негативных факторов. Все это просто: каждую из этих теорий можно продумать у себя в голове за доли секунды, имея при этом хоть какое-то пространственно-временное мышление, – но это все философия, не будем об этом. – Он глубоко вздохнул, все так же взглядом смотря за мою спину, порой фокусируясь на мне, но, тем не менее, не имея никакого желания делать это постоянно, и уж тем более ему совершенно не было нужды уделять моей персоне особое внимание; он говорил так, словно декламировал монолог; он продолжал: – И, в конце концов, что же движет нами, если не желание вечно жить и не стремление к лучшему из миров, к вечному блаженству на полумертвой Земле, возвышаясь над каждым из бедствующих, оскорбленных и униженных? И каждый думал, что он будет сильнее других, умнее и лучше, а если не он сам, то хотя бы его дети или дети его детей. И в этой агонии вечной алчности все мы пришли в итоге к смирению, к успокоению и жалости к другим, к новому проявлению альтруизма, но уже всеобщего и тоталитарного. Люди постепенно научились состраданию, в то время как наши предки это чувство активно в себе подавляли. Я не скажу, что это плохо: ведь во всеобщем равновесии глупо придерживаться каких-либо еще суждений, отрицающих очевидное, но, между тем, кто знает, к чему это может привести потом: к разрухе, инфантильности или изнеженности, к трудностям в преодолении излишнего самомнения в головах каждого из ныне живущих, в трудностях понимания простых истин, заложенных в каждом из людей, но не всегда понятых…
Я уже не боялся его как нечто мне неизвестное и непривычное, но мне становилось страшно от слов, которые он говорил, от слов, которые сами по себе ничего не значили, но вкупе приобретали вкус поражения в войне, которая уже шла в умах миллиардов, даже тогда, когда никто о ней не подозревал, не понимал, что все уже решено: с нашего рождения и до момента смерти. Мы были запрограммированы на лучшую из жизней, но выбирали ли мы ее сами, хотели ли мы такой жизни, когда родились, и могли ли хотеть чего-то другого при том, что не знали мира другого – мира столь неясного и нечеткого, что от одного, даже самого незначительного отклонения от «нормы», бросало в дрожь? Хотели мы жить так, как нам якобы суждено теперь проживать свои жизни, являясь частью истории: без всяких забот и тягот, без пугающей неизвестности, витиеватой и трагически сложной, хотели ли мы прожить ее без случайностей и разочарований, следующих за каждым из нас по пятам, но не имеющих возможность добраться так близко, чтобы изменить нашу жизнь? Я уже не боялся ничего, полностью растворяясь в словах говорившего.
– Грядут великие перемены: скоро люди наконец-то поймут, что это неконтролируемый поток безумия, что безграничный потенциал, которой приведет нас к гибели, есть не что иное как иллюзия, и тогда придется ограничивать это стремление обуздать невозможное. Но также, как и когда-то психоделические вещества были исключительно медицинскими препаратами, – пойдя в массы, они стали бичом прогрессивного мира, – так и теперь эти стремления обуздать человеческий организм остановить уже будет невозможно. Невозможно станет просто так контролировать человеческое стремление подчинить себе невозможное, невозможно станет тягаться с алчностью, которая, казалось бы, давным-давно исчезла из умов обывателей, но, между тем, она не просто не исчезла, – она дремлет, ожидая своего коронного часа, чтобы снова стать причиной глобального истребления… И, в общем-то, я не могу ручаться, что все будет именно так, – повысив тембр голоса, сказал мужчина, – я не могу также ручаться, что все сказанное мной – правда или единственная правильная, праведная истина – кончено, нет, – но все происходящие процессы я вижу именно так… мы их видим именно так, не обольщаясь и не считая, что мир уже навсегда обречен стать невероятным местом, без болезней, боли, страданий, страха и тому подобных вещей. Ведь меняя геном, мы лишь только подгоняем друг друга под определенный идеал – всех под один, один, который идеалом-то, по сути, не является, но только есть какая-то заоблачная фантазия, невидимая и неощутимая, – и куда мы стремимся, куда? К каким невероятным вселенным мы хотим идти, к каким невозможным встречам и осознанным случайностям, что как будто бы могут сделать нас сильнее, умнее или лучше?
«Какая невероятная сила в его словах, – думалось мне. – И пускай это все, быть может, на самом-то деле не правда, пускай это все выдумки человека, не способного понять формулу эстетики, формулу основных физических и биологических, социальных законов, но все же, но все же не это ли и является способностью ценить все существующее с другой точки зрения: с особой и мало кому понятной? Разве не в ошибках мы находим ключ к разгадке неразрешимых проблем, – не об этом ли он сам мне и рассказывал? Он не похож на человека, который готовится умирать, который вообще хоть как-то болен, и при всем при том, что он, вероятно, на самом деле обречен каждый день испытывать боль и сострадание, жалость от своих друзей, – ему доступно познание намного более великое, чем все, что я учил и все, что я знаю. Тогда не в смерти ли заключается стремление успеть как можно больше: успеть попробовать столько вкусов, вдохнуть столько ароматов, полюбить столько людей вокруг, понять столько мыслей, – нет, не отчаиваться скорой погибели, но осознанно идти на риск быть съеденным жизнью в обмен на грандиозное познание всего вокруг: вещей, оставленных невзначай, людей, встреченных случайно по пути домой, цветов, выращенных специально для каждого из нас, вопреки их типичной незаметности в гуще перипетий, любви, настоящей, неподдельной, которую даже в наши беспечные времена не удается сохранять так долго, как хотелось бы. Какая суть вещей раскрывается в его поникших глазах, какая философия слетает с его уст».
А мужчина, между тем, все говорил, и говорил, и говорил, останавливаясь лишь затем, чтобы дать себе возможность отдохнуть и собраться с мыслями для дальнейшей борьбы как с самим собой, так и с силами ему неподвластными. Он говорил о многом и многие темы затрагивал еще, но самое важное он уже сказал, донес до вдохновленного его словами слушателя, если не примкнувшего в сплочённые ряды натуралистов, то хотя бы открывшего для себя нечто новое – большего ему и не требовалось. Он уже повторялся, но в его словах до сих пор проскакивали умные, почти гениальные мысли, не лишенные смысла:
– Мы то, что мы творим и как думаем; мы – воплощение своих мыслей, но под углом зрения других, незнакомых нам людей, заинтересованных в разговорах с нами, часами напролет слушающих как будто бы бесконечно умные и страстные речи, на самом же деле являющимися таковыми только потому, что они не лишены смысла. Мы не должны становиться одинаковыми, потому что только в наших разногласиях мы так интересны и необычны, потому что только в спорах мы показываем, кто и что мы есть на самом деле: мы показываем самих себя по-настоящему. И пускай мы глупые и необразованные, пускай мы знаем не так много и не во всех сферах можем достичь таких невероятных успехов, каких с легкостью достигаете вы, даже не представляя, какою ценностью располагаете, пускай, но в этой глупости мы так наивны и прекрасны, как не прекрасен ни один из вас, как несовершенен ни один из известных тебе людей. Я не принижаю ваших достоинств – да, вы чудесны, отвратительно-чудесны, вы можете спасти миллионы жизней в одночасье, вы – сама панацея этой гиблой среды под названием «современность», но надо знать, где остановиться, надо знать, где та грань, разделяющая самосознание от необратимости вечного стремления достичь невозможного, – я не пытаюсь растоптать вашу значимость в эпопее современных хроник, я также не хочу никак одобрять все то, что происходит, но, между тем, я рад, что не имею никакого отношения к тем людям, которые разучились обычным для человека животным страстям, животным чувствам, которые когда-то сделали из нас человека разумного. И ты, мой друг… – и говоря эти слова, он практически перешел на шепот, а после того, как их произнес, и вовсе смолк. – Мы не должны менять своего мнения только потому, что так нам подсказывают наши чувства, наши желания или мысли, – вовсе нет! – мы должны принимать решения только тогда, когда они уже давным-давно сформированы в нас самих – и, по сути, мы не принимаем решения, мы просто открываем для себя то, что уже было в нас давным-давно заложено, то, что итак в нас самих всегда было…
В воздухе теперь витало столько вкусов и привкусов, столько полутонов неслышимых ранее звуков, столько сакральных мыслей, которые непременно надо было уловить, которые просто необходимо было понять и разжевать, проглатывая целиком; в воздухе витали идеи, ранее мне неизвестные и не несущие собой ничего, кроме равнодушия и скуки; в воздухе витал трогательный минор упущенных мгновений весны, в которую я думал о неразрешимых теориях вселенной, в конце концов, так ни к чему не придя, напрасно потеряв так много: заснеженные пустыни и жаркие микроклиматы в различных частях планеты и материках, одинокие песни в громадных консерваториях мира, тонущие в переизбытке какофонии и несуразных звуках, лишенных такта и ритмичности. Мне казалось, что я потерял все, я все упустил и напрасно расторговал, взамен получая так мало, и в этих мелочах не находя ничего стоящего вплоть до этой секунды, – теперь я научился жить, я научился мечтать. Я понял, что впереди еще слишком много времени, и за это время я успею сделать все, что захочу, но поймав себя на этой мысли, я осознал, что имея так много времени, я так мало хочу. Когда есть бесконечность впереди, зачем делать все сейчас? зачем стремиться к обыденному, если на это еще есть вся жизнь, которая именно тем и ценна: сиюсекундными рвениями почувствовать то, что никому неизвестно.
– Мы то, что мы творим и как думаем; мы – воплощение своих мыслей, но под углом зрения других, незнакомых нам людей, заинтересованных в разговорах с нами, часами напролет слушающие как будто бы бесконечно умные и страстные речи, на самом же деле являющиеся таковыми только потому, что они не лишены смысла.
Нам дано так много теперь, но также много оставлено без внимания. Нам суждено жить и любить так быстро и так смело; но под напором бесконечно долгой индифферентности к мелочам, нам кажется, что все еще успеется и, конечно, не сейчас. Нам суждено лишь напоследок полакомиться сущностью вещей, навсегда теряясь в вариациях возможностей, в сущности, ничего не значащих… Как странно, что все зная и все имея у себя в голове – миллионы смыслов и толков, объяснений и понятий, – нам неподвластно на самом деле оценить богатство души и сакральных, интимных помыслов, сидящих в нас. Нам предначертано было развиваться, и в этом развитии видеть смысл своих деяний, но вместо сумеречных надежд на необратимость вечной цикличности нам, очевидно, суждено теперь не обращать внимания ни на что, кроме самих себя… Нам не суждено теперь жить мечтами, которые настолько невероятны, что попросту несбыточны – нам просто теперь не к чему стремиться, имея под рукой все необходимое, все, что требуется для исполнения прихотей и желаний… нам не к чему идти…
И человек, потерявший, кажется, все, потерявший бесценное время своей жизни, – он обрел намного больше, чем потерял: он обрел знание, которое не дано понять «небожителям», которое не понять людям, за своей вечной занятостью забывших настоящую ценность времени…
– Мы то, что мы творим и как мы думаем. Мы то, как мы ценим мгновения бесцельно прожитой жизни, но главное – части ее осмысленной…
Покидая мужчину, забитого в уголок и ни при каких условиях не желавшего этот уголок оставлять, – уходя из этого места, наверное, навсегда, шагая маленькими шажками по истрепанному и истертому полу, мне казалось, что в каждом из этих мгновений есть свой смысл, особый, никому, кроме меня, неведомый, недоступный. А сейчас, сейчас мне хотелось снова попасть в привычную для меня атмосферу спокойствия и защищенности, где бы я мог обдумать все услышанное и увиденное за последнее время.
Проходя мимо открытых дверей я мельком заглядывался на никудышную обстановку и совсем несочетающиеся между собой вещи интерьера, но теперь мне казалось, что и в этом есть особый смысл, что и в этом безвкусном нагромождении предметов есть что-то, что не поддается человеческой способности чувствовать, но на самом же деле все-таки является определенным искусством, определенной частью человеческой культуры, разрозненной в какофонии безликих симфоний давно уже погрязших в эпигонстве современников. Максимализм этой идеи, нетипичной идеи в стремлении быть уникальными, – он заключался как раз в том, что весь этот хлам не нес собой никакой ценности как вместе, так и по отдельности, – он просто был, и это надо было принять как данное; и смиряясь с этим, можно понять, что не обязательно все должно быть хоть как-то охарактеризовано, как-то осмыслено или объяснено, – все становилось очень простым и, чему не принято следовать в наше время, нелогичным: весь мир заключался в обычном хламе, нагромождённым среди комнаты, как будто бы одновременно портившим ее, но в то же время создающим в ее пределах свою ноосферу – область человеческой жизни, которая не является ничем, кроме хлама. Все это значило для этих людей, очевидно, не больше, чем для меня. Но в само?м воплощении каждодневной мысли о столь отвратительном, обычном, как о чем-то банальном и пустяковом, что даже не стоит этого замечать, – в этом они были прекрасны, в этом они превзошли логику и четкость мышления. Они в трезвом рассудке видели и мечтали, – о, конечно, мечтали, я уверен, что они могли мечтать именно из-за своей узколобости и недальновидности, – они мечтали о столь великом и грандиозном, о чем не мог и помыслить любой из нас даже в наркотическом бреду.
И уже выйдя из дома, я начал осознавать предназначение человека. Его предназначением было жить так, как хочется. Все эти люди – они жили так, как считали нужным, и при этом не навязывали свое мнение остальным; они знали, что все те, кто с ними солидарен, – они уже здесь, рядом с ними в этом небольшом квартале, затерянном среди огромного мегаполиса. Им оставалось жить не так долго, как нашей цивилизации; из-за своего упрямства они исчезнут намного раньше, чем могли бы, будь их мысли немного лояльнее к нам, а мышление немного более гибким. В своем несовершенстве они были прекрасны, но это не та эстетическая составляющая, подпитывающая наше современное общество, – это нечто иное. Глупцы, они променяли знания и блаженную жизнь на стремление к удовлетворению базовых потребностей, оправдывая это весьма сомнительными идеями. Прекрасные идея, но не для нашего века высоких технологий и быстроизменяющегося мира, где уже нет места слабости.