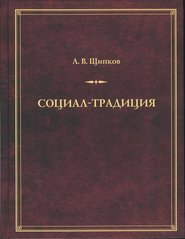По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Язык. Сборник статей о становлении русского дискурса
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Язык. Сборник статей о становлении русского дискурса
Александр Владимирович Щипков
Сборник «язык» представляет собой завершение трилогии, начатой в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Жанровая традиция, которой следуют авторы трилогии, связана со знаменитыми «Вехами» и так называемыми «веховидными сборниками» («Смена вех», «Из-под глыб» и др.), выходившими в свет в разные исторические периоды. Главной жанровой особенностью трилогии авторы предлагают считать прямое высказывание на общественно-политические темы, «политику поверх политики и вне политики». В числе тем «языка» – историческая и современная семантика понятия «русский», современный либеральный язык, язык современного искусства и язык русской православной Церкви, концептосфера русской традиции. Как было и в предыдущих сборниках, авторы «языка» не стремятся к идеологическому единообразию, но их объединяет общая повестка и общая проблематика.
А. В. Щипков
Язык: Сборник статей о становлении русского дискурса
© Щипков А. В., 2017
© ПРОБЕЛ-2000, 2017
От составителя
Сборник «язык», который вы держите в руках, представляет собой завершение трилогии, начатой нами в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Менялись авторы, темы, позиции, но оставался неизменным главный принцип: сохранить ту проникновенную и вместе с тем гражданственную интонацию, которую оставили нам в наследство авторы «Вех». Вопреки засилью информационных спекуляций «общества спектакля» и пропагандистским трендам мы стремились сохранить право на прямое высказывание, сохранить возможность говорить о политике поверх и вне политики.
Когда создавалась вторая книга («Плаха»), исторические события скакали галопом, и мы едва успевали за ними. Сейчас всё наоборот: мир вступил в полосу предельной неопределённости, которая, по всей видимости, является затишьем перед бурей.
В 2014-м наш народ почувствовал вкус национального воссоединения. Тогда в России закончилась гражданская война: бывшие красные и бывшие белые осознали, в чём их общие задачи и общая историческая судьба. У нас появилась уникальная возможность выскочить из исторического тупика, преодолеть своё полуколониальное состояние.
Сегодня мы вынуждены «препарировать» механизмы, которые удерживают страну в состоянии либерального застоя, не позволяя национальному большинству в законной и цивилизованной форме реализовать своё право на демократию, верность традиции и социальную справедливость. Но если мы спокойно и внимательно посмотрим вокруг, то увидим ту же ситуацию и в Европе, и в США.
Смена культурной парадигмы, а с ней и прежней социальной модели неизбежна, но искусственно «заморожена». Мы пребываем во власти устаревших дискурсов и стереотипов, которые мешают нам двигаться вперёд.
По большому счёту данная проблема – это проблема языка, важнейшего социального института, который определяет, что и как мы говорим, как мы поступаем, каков жизненный мир, который мы сами для себя создаём. И если первый том трилогии («Перелом») рассказывал читателю о том, что нам придётся делать в ближайшем будущем, второй («Плаха») – о том, кто это будет делать, то третий том («язык») разъясняет, как, с помощью чего будет сделано то, что должно быть сделано.
Авторы сборника пытаются разобраться в причинах системных сбоев внутри современного российского дискурса. Речь идёт о том, как и почему мы строим образ собственной истории, что происходит с языком современного либерализма, каково состояние языка национальной идентичности и традиции, что мы вправе и чего мы не вправе ожидать от языка Церкви и языка современного искусства.
Сегодня мир находится в состоянии перелома. В периоды, когда социальные перемены запаздывают и искусственно сдерживаются, язык является главным инструментом социальных и культурных изменений.
Почему дело обстоит именно так?
Мы говорим с помощью языка, но и язык говорит с нашей помощью. Ведь язык – вспомним Фердинанда де Соссюра – это система правил, социальное бессознательное, которое ускользает от рассудка, но формирует нашу речь и наши поступки.
Как сказать, чтобы тебя поняли? Как сказать, чтобы поняли именно тебя, а не твоего оппонента?
Экономика, конкуренция, отношения господства и подчинения, мессианизм – всё это отражается в языке, в виде «дискурсивной борьбы» (Дж. Холл), «войны икон» (П. Бурдьё), различных форм информационного неравенства. Управлять поведением больших групп людей удаётся тому, кто способен менять правила языка. Это проблема не только для философских штудий, она прямо касается повседневности.
В информационном обществе смыслом сообщения оказывается не столько утверждение или описание, сколько сама власть над слушающим, суггестивные возможности дискурса. При желании можно объявить войну несуществующему государству, заявить о пришествии нового мессии, убедить людей в том, что с мировым терроризмом в образе длиннобородого старца ведётся успешная борьба, а толерантность обязательно спасёт мир. Или наоборот.
Мы хотим быть свободными? Тогда подумаем над тем, как мы сегодня говорим, и удалим из своей речи навязанные нам клише, избавив себя от идеологем, которые нам дали в нагрузку к нашему родному языку. Только тогда мы сможем по-настоящему понимать друг друга.
Обсуждение языка и его правил – первый шаг к смене социальной парадигмы, и этот процесс сегодня набирает силу. Он необратим.
Жажда Большого стиля стучится в сердца европейцев и американцев, она разрушает индустрию лжи и фальсификаций, выстроенную финансовой олигархией. Люди всерьёз решили вернуть себе законное право на прямое высказывание, право говорить между собой на более человечном языке.
Путь к прямому высказыванию и живому общению лежит через смену языка. Пусть на первом этапе наша речь будет проста и безыскусна, зато ничто не помешает нам сказать друг другу именно то, что мы хотим сказать. Нас ждёт освобождение языка.
А. Щ.
Русский
Смена политических настроений влечёт смену политического языка и политического мышления. В XX веке в России дважды менялся язык – после революции 1917 года и в период перестройки с объявлением «нового политического мышления». В оборот вошли новые обращения к людям, названия улиц и городов, оценки исторических фигур, наименования главных государственных учреждений и даже самоназвание народа. Новый язык давал новый взгляд на мир, ценности, идентичность.
После перестройки и проведённых реформ в России утвердился либеральный политический язык – язык международного общения и современной западной культуры. Россия его усвоила, но в отличие от западного мира не успела им воспользоваться. Кризис постмодерна в культуре и закат эпохи однополярности в международных отношениях начали требовать новой парадигмы мышления и нового языка, способного адекватно описывать современный мир. Вчерашние базовые понятия стали рыхлыми и потеряли однозначность – свобода, права человека, мультикультурализм, демократические ценности, гражданское общество. Уже через десять лет после перестройки стало не хватать слов, чтобы власти и народу общаться между собой и с остальным миром.
Россия стала предлагать новый язык. С этого времени повторяющийся посыл выступлений российских лидеров на международных площадках заключался в том, что мир стремительно меняется, а старая парадигма мышления его критически искажает, ведёт к непониманию и новым кризисам. При этом российский политический класс и интеллектуальная элита в последние годы начали приходить к мысли о том, что, прежде чем добиваться понимания от международного сообщества и экспортировать свой язык, необходимо укрепить собственный понятийный аппарат. То есть ответить для себя на вопросы о собственных ценностях и идентичности.
В. Путин в своём выступлении на заседании клуба «Валдай» в 2013 году фактически признал, что укрепление государства на внешнеполитической арене тормозится аморфностью внутренней картины общества, его ценностей и задач. Поэтому одним из ключевых вопросов современной России, по его словам, становится вопрос «кто мы?». Сам этот вопрос для страны с многовековой историей звучит с элементами трагизма, усиливающегося тем, что у народа России есть чувство собственной идентичности, но нет устойчивого самоназвания.
Мы называем себя россиянами, многонациональным и многоконфессиональным народом. К нам обращаются как к «гражданам России», а также определяют как союз братских народов. В последнее время, чтобы уйти от этих невыразительных имён, общество всё чаще олицетворяет себя с названием самого государства: «мы – Россия», «мы – Русский мир», «мы – Российская / Русская цивилизация». В итоге так сложилось, что в геополитическом масштабе мы понимаем себя более ясно, чем в национальном, потому что название страны у нас звучит более конкретно и содержательно, чем наименование народа.
Самоопределение народа усложняется и на фоне укрепления его национальных меньшинств. Парад идентичностей в национальных республиках, начавшийся в 1990-е годы, сегодня достиг своего пика. В то время как после распада СССР Россия вошла в систему западной глобализации, её внутренние национальные регионы нашли точку опоры в стремительном локальном национализме. Россия испытала то, что сегодня модно называть глокализацией – одновременным процессом глобализации и локализации, то есть разложением государственной субъектности на национализм и глобализм.
Современная глобализация поощряет местный патриотизм больше, чем государственный. Быть патриотом отдельного субъекта федерации или отдельного российского города в глобальной парадигме более престижно, чем, например, быть патриотом Русского мира. Патриотизм же в масштабе крупного политического образования чаще называется «имперскими амбициями». Развиваясь, эта идея поощряет этнический изоляционизм, а также регионализм – процесс искусственного конструирования новых региональных идентичностей (новых сибиряков, калининградцев, поморов, ингерманландцев и других).
Эти обстоятельства стимулируют общество искать интегрирующие смыслы и названия. В качестве наиболее перспективной на сегодняшний день рассматривается идея России как страны-цивилизации, которая позволяет сформировать образ единого полиэтнического и поликонфессионального государства, базовыми элементами которого остаются русская культура и традиционные христианские ценности. Идея цивилизации становится политически востребованной, поскольку позволяет говорить об общем, избегая частностей, и эффективно разрабатывать внешнюю доктрину, откладывая внутреннюю.
Однако баланс между внешней и внутренней (общенациональной) идентичностью в современной России хрупок. Образ России как участника международных отношений, бесспорно, ярок и содержателен. Мы хорошо знаем, кто мы в мире и в чём заключаются наши международные интересы. И международному сообществу сразу понятно, о ком говорится, когда речь заходит о России, потому для него мы оставались «Russians» всегда: и при царе, и при советской власти, и при либерализме. Ярко выраженной и понятной также является местная, этно-региональная идентичность российских национальных республик. Однако общенародная, консолидированная идентичность по-прежнему воспринимается жителями страны туманно и не успевает за динамикой как международных, так и внутренних регионалистских процессов. Народ России является большой абстракцией и условным обобщением, понятие о нём не структурировано и не конкретно. Эту ситуацию закрепляет термин «россияне», который является в большей степени географическим, а не ценностным, и расширительным, а не конкретизирующим. «Россияне» не способны соединить глобальную идентичность России с развивающимися в российских регионах этническими идентичностями и стать механизмом культурно-исторической сборки народа. Получается, идентичность есть, а эффективно работающего термина нет. Отсюда рождаются странные вопросы, которые задаёт себе государство с тысячелетней историей.
* * *
Так сложилось, что после завершения советского периода использование термина «русские» стало символом идеологической власти. Безопасно применять его смогли те круги, которые руководили общественным мнением. Поэтому первоначально монополия на «русских» сохранялась исключительно у либерального дискурса. Затем стали появляться новые центры силы, влияющие на формирование информационной повестки дня, среди них – партии, армия, Церковь, новое политическое руководство и пр. Это послужило причиной, по которой у термина «русские» постепенно появились разные эмоциональные интерпретации, что привело к двум последствиям: во-первых, он перестал быть табуированным, а во-вторых, между его интерпретациями началась борьба.
Либерал-демократы
Либералы, пришедшие к власти в новой России, долгое время оставались единственной силой, у которой было право использовать слово «русский». В это время утвердилась своеобразная норма, что русским можно называть только то, что имеет либо антисоветский подтекст («Русская освободительная армия», «Русская мысль», «Русская служба Би-Би-Си»), либо является «новым русским», то есть вненациональным и не связанным с историческим русским народом («Русское радио», «Русский журнал»).
Термину «российский» в это время была отведена официозная роль. В этом слове не было ничего интеллектуального, идеологического и вообще яркого – «Российская газета», «российское общество», «российские власти». Исключительно «российскими» также стали музыка, история и армия. Единственным, что невозможно было переименовать, была русская литература. С одной стороны, введение «российской литературы» означало бы стилистическое усиление слова «российский», придания ему фундаментального значения и лишения его нейтрально-официозного смысла. Тем более сложно было бы назвать российскими писателями одновременно Пушкина, Достоевского, Булгакова и Набокова. С другой стороны, новая интеллигенция 1990-х годов не хотела отказываться от всемирно известного бренда и его символического капитала. Примеряя статус русского писателя, она получала дополнительную возможность социализироваться в современном западном культурном и информационном пространстве. Осознавать себя русским писателем по-прежнему приятно и в Лондоне, и в Цюрихе.
Либерал-националисты
Тогда же в 1990-е годы в России появился необычный идеологический гибрид, совмещающий либерализм с русским национализмом. Частично он был заимствован у европейских национал-демократических и национал-либеральных партий, частично изобретался заново.
Либерал-националисты возникли и действуют за чертой или на грани допустимого политического дискурса и нередко являются маргиналами, впрочем, осознанно. Они являются ветвью российских либерал-демократов, а их роль заключается в том, чтобы карнавализовать и маргинализовать русскую тему, лишить её самостоятельности, не дать превратиться в консолидирующую силу. Они отнимают у термина «русское» ценностно-историческое содержание и наполняют его националистическим смыслом (жириновский, Крылов, Просвирнин).
Кроме того, либерал-националисты создают в информационном пространстве искусственный и управляемый градус русского национализма. С одной стороны, «русская угроза» легитимирует либерал-демократов и способствует укреплению мифа о том, что они остаются единственной силой, охраняющей в обществе начало цивилизации перед лицом националистического хаоса. С другой стороны, либерал-националисты не отказываются от политического ресурса русской темы. Они создают из русских образ угнетаемого меньшинства и загоняют их в психологическое гетто (мы за бедных, мы за русских), поскольку именно из меньшинств технологически состоит современное протестное движение (Белковский, Навальный, Национально-демократический альянс). В случае успеха их ждёт политическое эльдорадо: если сделать из большинства «меньшинство», то оно станет самым влиятельным меньшинством и достаточной силой для смены власти в стране.
Таким образом, либерал-националисты окрашивают термин «русские» в националистические тона, лишая его общекультурного содержания, а также применяют его в значении протестно настроенного политического меньшинства.
Новые модернисты
Либеральный подход строится на постмодернистских принципах и окрашивает термин «русские» в противоречивые тона. «Русское» стало означать и «антисоветское», и «тёмный национализм», и «угнетаемое меньшинство». Попытки противостоять этой интонации привели к возрождению и укреплению в российском дискурсе модернистского подхода. Мировоззрение модерна и производных модернистских течений возникло и долгое время существовало как способ отрицания или по крайне мере коренного переосмысления Традиции. Однако в сегодняшних условиях модерн, уступивший место эпохи постмодерна, сам стремится занять нишу классики и стать новой традицией, главной антитезой постмодерна. Современный модерн пытается вложить в термин «русские» дух советского патриотизма, национализма и мягкого атеизма.
Фактически российские модернисты (зюганов, Кургинян, Проханов) используют слово «русский» как частное проявление «советского» и конструируют новых «русских-советских». Отсюда берут своё начало все стилистические особенности этого подхода. Сегодня у модернистов русский народ предстаёт как, безусловно, народ имперский (в советском понимании), необязательно православный, но уважающий православие, безнадёжно ностальгирующий по советским достижениям, стремящийся в большей степени к техническому развитию, чем к гуманитарному, а также к историческому реваншу за поражение в холодной войне. Образ русских в современном политическом модерне часто состоит из простого рабочего народа, не имеющего ярко выраженных национальных особенностей, но стремящегося к реставрации СССР или подобного сверхгосударства. Русская культура при таком подходе рассматривается скорее как стратегический элемент сохранения государственности, чем самоценность.
Современные модернисты используют концепт «русские» как простое неизменное целое, как обязательную деталь государственного каркаса. Основная особенность этого взгляда в том, что он лишён психологизма. Для него не существует вопросов Достоевского о природе русской души и метаисторических размышлений Соловьёва о русской идее.
Русское зарубежье
Александр Владимирович Щипков
Сборник «язык» представляет собой завершение трилогии, начатой в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Жанровая традиция, которой следуют авторы трилогии, связана со знаменитыми «Вехами» и так называемыми «веховидными сборниками» («Смена вех», «Из-под глыб» и др.), выходившими в свет в разные исторические периоды. Главной жанровой особенностью трилогии авторы предлагают считать прямое высказывание на общественно-политические темы, «политику поверх политики и вне политики». В числе тем «языка» – историческая и современная семантика понятия «русский», современный либеральный язык, язык современного искусства и язык русской православной Церкви, концептосфера русской традиции. Как было и в предыдущих сборниках, авторы «языка» не стремятся к идеологическому единообразию, но их объединяет общая повестка и общая проблематика.
А. В. Щипков
Язык: Сборник статей о становлении русского дискурса
© Щипков А. В., 2017
© ПРОБЕЛ-2000, 2017
От составителя
Сборник «язык», который вы держите в руках, представляет собой завершение трилогии, начатой нами в 2013 году сборником статей «Перелом» и продолженной в 2015 году сборником «Плаха». Менялись авторы, темы, позиции, но оставался неизменным главный принцип: сохранить ту проникновенную и вместе с тем гражданственную интонацию, которую оставили нам в наследство авторы «Вех». Вопреки засилью информационных спекуляций «общества спектакля» и пропагандистским трендам мы стремились сохранить право на прямое высказывание, сохранить возможность говорить о политике поверх и вне политики.
Когда создавалась вторая книга («Плаха»), исторические события скакали галопом, и мы едва успевали за ними. Сейчас всё наоборот: мир вступил в полосу предельной неопределённости, которая, по всей видимости, является затишьем перед бурей.
В 2014-м наш народ почувствовал вкус национального воссоединения. Тогда в России закончилась гражданская война: бывшие красные и бывшие белые осознали, в чём их общие задачи и общая историческая судьба. У нас появилась уникальная возможность выскочить из исторического тупика, преодолеть своё полуколониальное состояние.
Сегодня мы вынуждены «препарировать» механизмы, которые удерживают страну в состоянии либерального застоя, не позволяя национальному большинству в законной и цивилизованной форме реализовать своё право на демократию, верность традиции и социальную справедливость. Но если мы спокойно и внимательно посмотрим вокруг, то увидим ту же ситуацию и в Европе, и в США.
Смена культурной парадигмы, а с ней и прежней социальной модели неизбежна, но искусственно «заморожена». Мы пребываем во власти устаревших дискурсов и стереотипов, которые мешают нам двигаться вперёд.
По большому счёту данная проблема – это проблема языка, важнейшего социального института, который определяет, что и как мы говорим, как мы поступаем, каков жизненный мир, который мы сами для себя создаём. И если первый том трилогии («Перелом») рассказывал читателю о том, что нам придётся делать в ближайшем будущем, второй («Плаха») – о том, кто это будет делать, то третий том («язык») разъясняет, как, с помощью чего будет сделано то, что должно быть сделано.
Авторы сборника пытаются разобраться в причинах системных сбоев внутри современного российского дискурса. Речь идёт о том, как и почему мы строим образ собственной истории, что происходит с языком современного либерализма, каково состояние языка национальной идентичности и традиции, что мы вправе и чего мы не вправе ожидать от языка Церкви и языка современного искусства.
Сегодня мир находится в состоянии перелома. В периоды, когда социальные перемены запаздывают и искусственно сдерживаются, язык является главным инструментом социальных и культурных изменений.
Почему дело обстоит именно так?
Мы говорим с помощью языка, но и язык говорит с нашей помощью. Ведь язык – вспомним Фердинанда де Соссюра – это система правил, социальное бессознательное, которое ускользает от рассудка, но формирует нашу речь и наши поступки.
Как сказать, чтобы тебя поняли? Как сказать, чтобы поняли именно тебя, а не твоего оппонента?
Экономика, конкуренция, отношения господства и подчинения, мессианизм – всё это отражается в языке, в виде «дискурсивной борьбы» (Дж. Холл), «войны икон» (П. Бурдьё), различных форм информационного неравенства. Управлять поведением больших групп людей удаётся тому, кто способен менять правила языка. Это проблема не только для философских штудий, она прямо касается повседневности.
В информационном обществе смыслом сообщения оказывается не столько утверждение или описание, сколько сама власть над слушающим, суггестивные возможности дискурса. При желании можно объявить войну несуществующему государству, заявить о пришествии нового мессии, убедить людей в том, что с мировым терроризмом в образе длиннобородого старца ведётся успешная борьба, а толерантность обязательно спасёт мир. Или наоборот.
Мы хотим быть свободными? Тогда подумаем над тем, как мы сегодня говорим, и удалим из своей речи навязанные нам клише, избавив себя от идеологем, которые нам дали в нагрузку к нашему родному языку. Только тогда мы сможем по-настоящему понимать друг друга.
Обсуждение языка и его правил – первый шаг к смене социальной парадигмы, и этот процесс сегодня набирает силу. Он необратим.
Жажда Большого стиля стучится в сердца европейцев и американцев, она разрушает индустрию лжи и фальсификаций, выстроенную финансовой олигархией. Люди всерьёз решили вернуть себе законное право на прямое высказывание, право говорить между собой на более человечном языке.
Путь к прямому высказыванию и живому общению лежит через смену языка. Пусть на первом этапе наша речь будет проста и безыскусна, зато ничто не помешает нам сказать друг другу именно то, что мы хотим сказать. Нас ждёт освобождение языка.
А. Щ.
Русский
Смена политических настроений влечёт смену политического языка и политического мышления. В XX веке в России дважды менялся язык – после революции 1917 года и в период перестройки с объявлением «нового политического мышления». В оборот вошли новые обращения к людям, названия улиц и городов, оценки исторических фигур, наименования главных государственных учреждений и даже самоназвание народа. Новый язык давал новый взгляд на мир, ценности, идентичность.
После перестройки и проведённых реформ в России утвердился либеральный политический язык – язык международного общения и современной западной культуры. Россия его усвоила, но в отличие от западного мира не успела им воспользоваться. Кризис постмодерна в культуре и закат эпохи однополярности в международных отношениях начали требовать новой парадигмы мышления и нового языка, способного адекватно описывать современный мир. Вчерашние базовые понятия стали рыхлыми и потеряли однозначность – свобода, права человека, мультикультурализм, демократические ценности, гражданское общество. Уже через десять лет после перестройки стало не хватать слов, чтобы власти и народу общаться между собой и с остальным миром.
Россия стала предлагать новый язык. С этого времени повторяющийся посыл выступлений российских лидеров на международных площадках заключался в том, что мир стремительно меняется, а старая парадигма мышления его критически искажает, ведёт к непониманию и новым кризисам. При этом российский политический класс и интеллектуальная элита в последние годы начали приходить к мысли о том, что, прежде чем добиваться понимания от международного сообщества и экспортировать свой язык, необходимо укрепить собственный понятийный аппарат. То есть ответить для себя на вопросы о собственных ценностях и идентичности.
В. Путин в своём выступлении на заседании клуба «Валдай» в 2013 году фактически признал, что укрепление государства на внешнеполитической арене тормозится аморфностью внутренней картины общества, его ценностей и задач. Поэтому одним из ключевых вопросов современной России, по его словам, становится вопрос «кто мы?». Сам этот вопрос для страны с многовековой историей звучит с элементами трагизма, усиливающегося тем, что у народа России есть чувство собственной идентичности, но нет устойчивого самоназвания.
Мы называем себя россиянами, многонациональным и многоконфессиональным народом. К нам обращаются как к «гражданам России», а также определяют как союз братских народов. В последнее время, чтобы уйти от этих невыразительных имён, общество всё чаще олицетворяет себя с названием самого государства: «мы – Россия», «мы – Русский мир», «мы – Российская / Русская цивилизация». В итоге так сложилось, что в геополитическом масштабе мы понимаем себя более ясно, чем в национальном, потому что название страны у нас звучит более конкретно и содержательно, чем наименование народа.
Самоопределение народа усложняется и на фоне укрепления его национальных меньшинств. Парад идентичностей в национальных республиках, начавшийся в 1990-е годы, сегодня достиг своего пика. В то время как после распада СССР Россия вошла в систему западной глобализации, её внутренние национальные регионы нашли точку опоры в стремительном локальном национализме. Россия испытала то, что сегодня модно называть глокализацией – одновременным процессом глобализации и локализации, то есть разложением государственной субъектности на национализм и глобализм.
Современная глобализация поощряет местный патриотизм больше, чем государственный. Быть патриотом отдельного субъекта федерации или отдельного российского города в глобальной парадигме более престижно, чем, например, быть патриотом Русского мира. Патриотизм же в масштабе крупного политического образования чаще называется «имперскими амбициями». Развиваясь, эта идея поощряет этнический изоляционизм, а также регионализм – процесс искусственного конструирования новых региональных идентичностей (новых сибиряков, калининградцев, поморов, ингерманландцев и других).
Эти обстоятельства стимулируют общество искать интегрирующие смыслы и названия. В качестве наиболее перспективной на сегодняшний день рассматривается идея России как страны-цивилизации, которая позволяет сформировать образ единого полиэтнического и поликонфессионального государства, базовыми элементами которого остаются русская культура и традиционные христианские ценности. Идея цивилизации становится политически востребованной, поскольку позволяет говорить об общем, избегая частностей, и эффективно разрабатывать внешнюю доктрину, откладывая внутреннюю.
Однако баланс между внешней и внутренней (общенациональной) идентичностью в современной России хрупок. Образ России как участника международных отношений, бесспорно, ярок и содержателен. Мы хорошо знаем, кто мы в мире и в чём заключаются наши международные интересы. И международному сообществу сразу понятно, о ком говорится, когда речь заходит о России, потому для него мы оставались «Russians» всегда: и при царе, и при советской власти, и при либерализме. Ярко выраженной и понятной также является местная, этно-региональная идентичность российских национальных республик. Однако общенародная, консолидированная идентичность по-прежнему воспринимается жителями страны туманно и не успевает за динамикой как международных, так и внутренних регионалистских процессов. Народ России является большой абстракцией и условным обобщением, понятие о нём не структурировано и не конкретно. Эту ситуацию закрепляет термин «россияне», который является в большей степени географическим, а не ценностным, и расширительным, а не конкретизирующим. «Россияне» не способны соединить глобальную идентичность России с развивающимися в российских регионах этническими идентичностями и стать механизмом культурно-исторической сборки народа. Получается, идентичность есть, а эффективно работающего термина нет. Отсюда рождаются странные вопросы, которые задаёт себе государство с тысячелетней историей.
* * *
Так сложилось, что после завершения советского периода использование термина «русские» стало символом идеологической власти. Безопасно применять его смогли те круги, которые руководили общественным мнением. Поэтому первоначально монополия на «русских» сохранялась исключительно у либерального дискурса. Затем стали появляться новые центры силы, влияющие на формирование информационной повестки дня, среди них – партии, армия, Церковь, новое политическое руководство и пр. Это послужило причиной, по которой у термина «русские» постепенно появились разные эмоциональные интерпретации, что привело к двум последствиям: во-первых, он перестал быть табуированным, а во-вторых, между его интерпретациями началась борьба.
Либерал-демократы
Либералы, пришедшие к власти в новой России, долгое время оставались единственной силой, у которой было право использовать слово «русский». В это время утвердилась своеобразная норма, что русским можно называть только то, что имеет либо антисоветский подтекст («Русская освободительная армия», «Русская мысль», «Русская служба Би-Би-Си»), либо является «новым русским», то есть вненациональным и не связанным с историческим русским народом («Русское радио», «Русский журнал»).
Термину «российский» в это время была отведена официозная роль. В этом слове не было ничего интеллектуального, идеологического и вообще яркого – «Российская газета», «российское общество», «российские власти». Исключительно «российскими» также стали музыка, история и армия. Единственным, что невозможно было переименовать, была русская литература. С одной стороны, введение «российской литературы» означало бы стилистическое усиление слова «российский», придания ему фундаментального значения и лишения его нейтрально-официозного смысла. Тем более сложно было бы назвать российскими писателями одновременно Пушкина, Достоевского, Булгакова и Набокова. С другой стороны, новая интеллигенция 1990-х годов не хотела отказываться от всемирно известного бренда и его символического капитала. Примеряя статус русского писателя, она получала дополнительную возможность социализироваться в современном западном культурном и информационном пространстве. Осознавать себя русским писателем по-прежнему приятно и в Лондоне, и в Цюрихе.
Либерал-националисты
Тогда же в 1990-е годы в России появился необычный идеологический гибрид, совмещающий либерализм с русским национализмом. Частично он был заимствован у европейских национал-демократических и национал-либеральных партий, частично изобретался заново.
Либерал-националисты возникли и действуют за чертой или на грани допустимого политического дискурса и нередко являются маргиналами, впрочем, осознанно. Они являются ветвью российских либерал-демократов, а их роль заключается в том, чтобы карнавализовать и маргинализовать русскую тему, лишить её самостоятельности, не дать превратиться в консолидирующую силу. Они отнимают у термина «русское» ценностно-историческое содержание и наполняют его националистическим смыслом (жириновский, Крылов, Просвирнин).
Кроме того, либерал-националисты создают в информационном пространстве искусственный и управляемый градус русского национализма. С одной стороны, «русская угроза» легитимирует либерал-демократов и способствует укреплению мифа о том, что они остаются единственной силой, охраняющей в обществе начало цивилизации перед лицом националистического хаоса. С другой стороны, либерал-националисты не отказываются от политического ресурса русской темы. Они создают из русских образ угнетаемого меньшинства и загоняют их в психологическое гетто (мы за бедных, мы за русских), поскольку именно из меньшинств технологически состоит современное протестное движение (Белковский, Навальный, Национально-демократический альянс). В случае успеха их ждёт политическое эльдорадо: если сделать из большинства «меньшинство», то оно станет самым влиятельным меньшинством и достаточной силой для смены власти в стране.
Таким образом, либерал-националисты окрашивают термин «русские» в националистические тона, лишая его общекультурного содержания, а также применяют его в значении протестно настроенного политического меньшинства.
Новые модернисты
Либеральный подход строится на постмодернистских принципах и окрашивает термин «русские» в противоречивые тона. «Русское» стало означать и «антисоветское», и «тёмный национализм», и «угнетаемое меньшинство». Попытки противостоять этой интонации привели к возрождению и укреплению в российском дискурсе модернистского подхода. Мировоззрение модерна и производных модернистских течений возникло и долгое время существовало как способ отрицания или по крайне мере коренного переосмысления Традиции. Однако в сегодняшних условиях модерн, уступивший место эпохи постмодерна, сам стремится занять нишу классики и стать новой традицией, главной антитезой постмодерна. Современный модерн пытается вложить в термин «русские» дух советского патриотизма, национализма и мягкого атеизма.
Фактически российские модернисты (зюганов, Кургинян, Проханов) используют слово «русский» как частное проявление «советского» и конструируют новых «русских-советских». Отсюда берут своё начало все стилистические особенности этого подхода. Сегодня у модернистов русский народ предстаёт как, безусловно, народ имперский (в советском понимании), необязательно православный, но уважающий православие, безнадёжно ностальгирующий по советским достижениям, стремящийся в большей степени к техническому развитию, чем к гуманитарному, а также к историческому реваншу за поражение в холодной войне. Образ русских в современном политическом модерне часто состоит из простого рабочего народа, не имеющего ярко выраженных национальных особенностей, но стремящегося к реставрации СССР или подобного сверхгосударства. Русская культура при таком подходе рассматривается скорее как стратегический элемент сохранения государственности, чем самоценность.
Современные модернисты используют концепт «русские» как простое неизменное целое, как обязательную деталь государственного каркаса. Основная особенность этого взгляда в том, что он лишён психологизма. Для него не существует вопросов Достоевского о природе русской души и метаисторических размышлений Соловьёва о русской идее.
Русское зарубежье