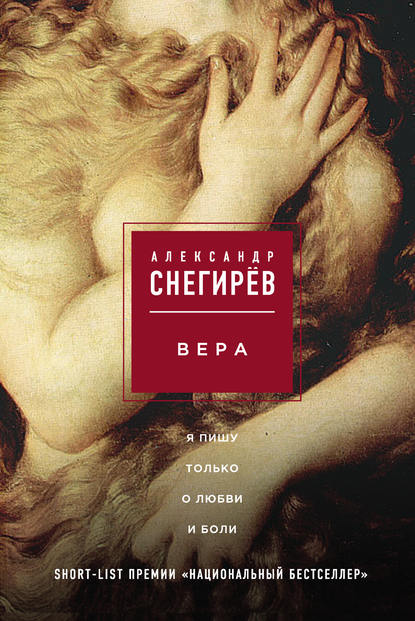По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вера
Александр Снегирёв
В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.
Александр Снегирёв
Вера
Пролог
Все началось в декабре одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в «Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта.
Катерина, в те дни уже его законная, замуж не хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато с избой.
Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов, в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было никогда: ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах.
Коряги древних яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, приглядывающие за детками – новыми жителями. Газоны пока несовершенны: или чересчур плоски, или, напротив, изрыты кротами, однако появление в Ягодке этой садовой прихоти столь необычно, что изъяны бросятся в глаза лишь недоброжелателю.
В конце деревни, ближе к лесу – утыканный кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с другого – пустырь. При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания – это фундамент барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих.
Но в спутниковые фотографии никто не всматривается, и новые обитатели Ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая под грудами незамысловатого инвентаря обнаруживают то резную, в форме звериной лапы, мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заплесневелый обрывок живописного холста.
Часть 1
В начале самой страшной войны в истории человечества нелюбимого мужа Катерины призвали. Однако не прошло и месяца, как он, дезертировав из госпиталя при отступлении, вернулся на костыле в еще не занятую неприятелем Ягодку. Катерина не успела понять, рада она вновь обретенному супругу или не очень, как услышала тарахтение моторов улыбчивой мотопехоты пятьдесят седьмого корпуса четвертой танковой армии, входящей в группу «Центр». Председателя при всем народе повесили, а хромой папаша трехлетнего Сулеймана, последний оставшийся в деревне дееспособный мужчина, сопротивления не оказал и был назначен старостой.
Немцы были веселые, угощали шоколадом. Потом настроение у них заметно испортилось, но это потом, а в начале жизнь в Ягодке сделалась яснее. Новые власти поощряли за послушание, наказывали за самодеятельность. Связисты повсюду размотали разноцветные провода, наладили телефонную связь между зданием бывшего сельсовета, сохранившим административные функции, обустроенным в церкви госпиталем и городом. Развесили вывески и согнали баб сровнять бугры на единственной улице, переименованной из «Ленина» в «Кайзер штрассе».
Самая страшная война в истории человечества быстро ушла на восток и напоминала о себе, пожалуй, только непрерывно работающим госпиталем, куда вскоре стали поступать бедолаги из-под Москвы, пострадавшие больше от непригодных климатических условий, чем от огня защитников столицы.
Сулик был типичным ребенком, росшим в оккупации: не тяготился, но ждал своих. А еще ему очень понравилась упорядоченность германского быта. С тех пор он упорядочивал все вокруг и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни.
Прочие жители испытывали нечто подобное – помощи новым хозяевам не оказывали, но и сопротивления тоже. Молодежь, наверное бы, рыпалась, но молодежи не было – парней мобилизовали в Красную армию, девки сплошь были малолетние, бабы помалкивали, а старики принимали все, как есть. Одна Лукерья, чьих сыновей-кулаков безвозвратно арестовала советская власть, Лукерья, которая тянула на себе внучку Зинку, не стеснялась проявлять позицию – крестила закатные небеса, когда воздушные армии запада прокладывали золотые лыжни в сторону востока.
За два с лишним года службы врагу муж Катерины ничего антинародного на своем посту не предпринял. Родилась дочка. Назвали без выкрутасов Раечкой, может, потому, что «Правда» в те годы была недоступна. Точнее, «Правда» распространялась, но поддельная, с Гитлером на развороте. Такой «Правде» староста не доверял, понимая – она не надолго. Только однажды староста оступился – осенью сорок второго пленили партизан и настояли, чтобы он подписался под расстрельным листом.
И он свои корявые буковки вывел.
Тогда мальчишки подсмотрели, и Сулик был среди них.
И он увидел, как люди превращаются в тела.
В скоропортящиеся отходы.
Увидел, как легко это происходит.
А больше ничего отец не совершил. Он вообще был тихий. Еще молодым, когда церковь разоряли, он к батюшке подступил и пожарным багром слегка пихнул в брюхо. Мол, помогай, борода. И в зубы двинул для аргумента. Батюшка сначала привередничал, а потом вдруг покорился и, отплевываясь красным, будто брусничных пирогов наелся, схватил багор и стал тыкать в росписи, дырявить разукрашенную штукатурку. Вскочив на алтарь, он вонзал острие в иконы и драл их крюком. Он опрокинул канун с остатками свечей и оборвал лампады. Он шуровал с такой отчаянной яростью, так страшно бранился, что вызвал у активистов оторопь и даже испуг, и тогда принудитель его не без труда багор отобрал. С открытой брезгливостью к погромщику и с затаенной к себе. Батюшку вскоре навсегда увезли компетентные товарищи, а будущий отец Сулика после того раза утих. В партию вступать не стал, хоть и выдвигали, увлекся чтением и женился.
Его не оскорбляло, что остановившийся у них на постой германский офицер-фотолюбитель к Катерине благоволит. Танцевать зовет под патефон и без всякого пренебрежения славянский стан обнимает.
На карточках, найденных годом позже в ранце этого самого, к тому времени уже бездыханного, фотографа, есть и ее изображения. Босая, недоверчивый взгляд из-под косынки. Запечатлена за подобающим занятием – ворошит сено.
Болтали про них, а про кого не болтают.
А может, и не зря болтали.
У Катерины даже бумажка, припечатанная страшным круговым крестом, одну ночь хранилась. Фотолюбитель оформил дарственную, вручил Ягодку ей и потомкам. И рукой повел, будто всю Россию отписал.
Наутро Катерина бумажку сожгла.
Вступление освободительного войска осуществилось не только без боя, но и вообще без какого-либо присутствия противника. Большей частью сжатые, поля кое-где еще колосились, хвоя зеленела, пыльная листва сначала пожухла, потом стала опадать. Солнце не светило ярче, погода не бунтовала.
Ягодка одинаково отдавалась каждому новому, не делая различия между пьющими ее воду, мнущими ее траву, оставляющими следы в ее пыли.
Въедливые оперативники, напротив, оказались настроены не столь философически и сразу принялись вычесывать изменников. Соседи в своей народной массе помалкивали, но кто-то выдал.
Четырнадцать заяв, круглыми женскими буковками писанных, следователь принял.
Это на семнадцать дворов.
Один сожженный партизанский, в другом безымянная слепая бабушка, в третьем старостино семейство.
Двое светлых юношей в синих фуражках пришли, когда Суликов папаша валенки подшивал.
Только ремень велели скинуть.
И похромал тихий староста, будущий Верин дед, на далекие лесозаготовки.
* * *
Скоро маленькая Раечка померла от того же, от чего половина шестой армии фельдмаршала Паулюса.
Дизентерия.
Голодали сильно.
Братья Катерины, ступив на боевой путь в самом начале, дошли по нему аж до Валгаллы, которую, небось, у немчуры и оттяпали.
Соседи стали мать с сыном дразнить фашистами. Сулик начал киснуть, замкнулся, сжег дареный фотолюбителем противогаз, фляжку бросил в реку, но она не утонула, а поплыла, как не тонуло, выныривало его одиночество, как не тонула тяга к порядку и разноцветным проводам.
Будучи мальчиком отверженным, он в редкие минуты деревенского досуга бродил по разгромленным, пахнущим медикаментами помещениям церкви-госпиталя, неподалеку от которой, рядом со старым кладбищем, из земли выступали холмики умерших от ран. Сначала в них были натыканы аккуратные крестики, но их пожгли. И остались одни холмики, которые быстро зарастали.
Скоро пошел слух, что в гробах сокровища.
И стар и млад принялись холмики потрошить и косточки просеивать.
И нашли.
Сашка перстенек содрал вместе с ошметками и на внутренней стороне надпись разобрал – Edvin und Linda.
Александр Снегирёв
В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.
Александр Снегирёв
Вера
Пролог
Все началось в декабре одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в «Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта.
Катерина, в те дни уже его законная, замуж не хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато с избой.
Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов, в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было никогда: ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах.
Коряги древних яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, приглядывающие за детками – новыми жителями. Газоны пока несовершенны: или чересчур плоски, или, напротив, изрыты кротами, однако появление в Ягодке этой садовой прихоти столь необычно, что изъяны бросятся в глаза лишь недоброжелателю.
В конце деревни, ближе к лесу – утыканный кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с другого – пустырь. При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания – это фундамент барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих.
Но в спутниковые фотографии никто не всматривается, и новые обитатели Ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая под грудами незамысловатого инвентаря обнаруживают то резную, в форме звериной лапы, мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заплесневелый обрывок живописного холста.
Часть 1
В начале самой страшной войны в истории человечества нелюбимого мужа Катерины призвали. Однако не прошло и месяца, как он, дезертировав из госпиталя при отступлении, вернулся на костыле в еще не занятую неприятелем Ягодку. Катерина не успела понять, рада она вновь обретенному супругу или не очень, как услышала тарахтение моторов улыбчивой мотопехоты пятьдесят седьмого корпуса четвертой танковой армии, входящей в группу «Центр». Председателя при всем народе повесили, а хромой папаша трехлетнего Сулеймана, последний оставшийся в деревне дееспособный мужчина, сопротивления не оказал и был назначен старостой.
Немцы были веселые, угощали шоколадом. Потом настроение у них заметно испортилось, но это потом, а в начале жизнь в Ягодке сделалась яснее. Новые власти поощряли за послушание, наказывали за самодеятельность. Связисты повсюду размотали разноцветные провода, наладили телефонную связь между зданием бывшего сельсовета, сохранившим административные функции, обустроенным в церкви госпиталем и городом. Развесили вывески и согнали баб сровнять бугры на единственной улице, переименованной из «Ленина» в «Кайзер штрассе».
Самая страшная война в истории человечества быстро ушла на восток и напоминала о себе, пожалуй, только непрерывно работающим госпиталем, куда вскоре стали поступать бедолаги из-под Москвы, пострадавшие больше от непригодных климатических условий, чем от огня защитников столицы.
Сулик был типичным ребенком, росшим в оккупации: не тяготился, но ждал своих. А еще ему очень понравилась упорядоченность германского быта. С тех пор он упорядочивал все вокруг и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни.
Прочие жители испытывали нечто подобное – помощи новым хозяевам не оказывали, но и сопротивления тоже. Молодежь, наверное бы, рыпалась, но молодежи не было – парней мобилизовали в Красную армию, девки сплошь были малолетние, бабы помалкивали, а старики принимали все, как есть. Одна Лукерья, чьих сыновей-кулаков безвозвратно арестовала советская власть, Лукерья, которая тянула на себе внучку Зинку, не стеснялась проявлять позицию – крестила закатные небеса, когда воздушные армии запада прокладывали золотые лыжни в сторону востока.
За два с лишним года службы врагу муж Катерины ничего антинародного на своем посту не предпринял. Родилась дочка. Назвали без выкрутасов Раечкой, может, потому, что «Правда» в те годы была недоступна. Точнее, «Правда» распространялась, но поддельная, с Гитлером на развороте. Такой «Правде» староста не доверял, понимая – она не надолго. Только однажды староста оступился – осенью сорок второго пленили партизан и настояли, чтобы он подписался под расстрельным листом.
И он свои корявые буковки вывел.
Тогда мальчишки подсмотрели, и Сулик был среди них.
И он увидел, как люди превращаются в тела.
В скоропортящиеся отходы.
Увидел, как легко это происходит.
А больше ничего отец не совершил. Он вообще был тихий. Еще молодым, когда церковь разоряли, он к батюшке подступил и пожарным багром слегка пихнул в брюхо. Мол, помогай, борода. И в зубы двинул для аргумента. Батюшка сначала привередничал, а потом вдруг покорился и, отплевываясь красным, будто брусничных пирогов наелся, схватил багор и стал тыкать в росписи, дырявить разукрашенную штукатурку. Вскочив на алтарь, он вонзал острие в иконы и драл их крюком. Он опрокинул канун с остатками свечей и оборвал лампады. Он шуровал с такой отчаянной яростью, так страшно бранился, что вызвал у активистов оторопь и даже испуг, и тогда принудитель его не без труда багор отобрал. С открытой брезгливостью к погромщику и с затаенной к себе. Батюшку вскоре навсегда увезли компетентные товарищи, а будущий отец Сулика после того раза утих. В партию вступать не стал, хоть и выдвигали, увлекся чтением и женился.
Его не оскорбляло, что остановившийся у них на постой германский офицер-фотолюбитель к Катерине благоволит. Танцевать зовет под патефон и без всякого пренебрежения славянский стан обнимает.
На карточках, найденных годом позже в ранце этого самого, к тому времени уже бездыханного, фотографа, есть и ее изображения. Босая, недоверчивый взгляд из-под косынки. Запечатлена за подобающим занятием – ворошит сено.
Болтали про них, а про кого не болтают.
А может, и не зря болтали.
У Катерины даже бумажка, припечатанная страшным круговым крестом, одну ночь хранилась. Фотолюбитель оформил дарственную, вручил Ягодку ей и потомкам. И рукой повел, будто всю Россию отписал.
Наутро Катерина бумажку сожгла.
Вступление освободительного войска осуществилось не только без боя, но и вообще без какого-либо присутствия противника. Большей частью сжатые, поля кое-где еще колосились, хвоя зеленела, пыльная листва сначала пожухла, потом стала опадать. Солнце не светило ярче, погода не бунтовала.
Ягодка одинаково отдавалась каждому новому, не делая различия между пьющими ее воду, мнущими ее траву, оставляющими следы в ее пыли.
Въедливые оперативники, напротив, оказались настроены не столь философически и сразу принялись вычесывать изменников. Соседи в своей народной массе помалкивали, но кто-то выдал.
Четырнадцать заяв, круглыми женскими буковками писанных, следователь принял.
Это на семнадцать дворов.
Один сожженный партизанский, в другом безымянная слепая бабушка, в третьем старостино семейство.
Двое светлых юношей в синих фуражках пришли, когда Суликов папаша валенки подшивал.
Только ремень велели скинуть.
И похромал тихий староста, будущий Верин дед, на далекие лесозаготовки.
* * *
Скоро маленькая Раечка померла от того же, от чего половина шестой армии фельдмаршала Паулюса.
Дизентерия.
Голодали сильно.
Братья Катерины, ступив на боевой путь в самом начале, дошли по нему аж до Валгаллы, которую, небось, у немчуры и оттяпали.
Соседи стали мать с сыном дразнить фашистами. Сулик начал киснуть, замкнулся, сжег дареный фотолюбителем противогаз, фляжку бросил в реку, но она не утонула, а поплыла, как не тонуло, выныривало его одиночество, как не тонула тяга к порядку и разноцветным проводам.
Будучи мальчиком отверженным, он в редкие минуты деревенского досуга бродил по разгромленным, пахнущим медикаментами помещениям церкви-госпиталя, неподалеку от которой, рядом со старым кладбищем, из земли выступали холмики умерших от ран. Сначала в них были натыканы аккуратные крестики, но их пожгли. И остались одни холмики, которые быстро зарастали.
Скоро пошел слух, что в гробах сокровища.
И стар и млад принялись холмики потрошить и косточки просеивать.
И нашли.
Сашка перстенек содрал вместе с ошметками и на внутренней стороне надпись разобрал – Edvin und Linda.