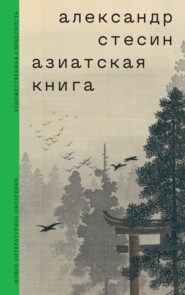По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Троя против всех
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плотный поток машин на проспекте Мариана Нгуаби сжимается, растягивается и снова сжимается, точно мех аккордеона. Если бы эту автомобильную гармошку снять на видео и сопроводить каким-нибудь подходящим саундтреком, могло бы выйти неплохо. Но я давно прошел стадию подобных, в сущности, туристических развлечений. Теперь это моя улица, мой район, и никакого музыкального сопровождения не надо. Пусть вместо инородной музыки звучит местная какофония. Пятьдесят процентов автомобилей в Луанде – маршрутки. Бело-голубые микроавтобусы «тойота-хайс». Из каждой высовывается зазывала. Он без конца повторяет пункт назначения, стараясь перекричать конкурента. «Мутамба, Мутамба, Мутамба!» «Конголенсе, Конголенсе, Конголенсе!» И вот эти беспрестанные выкрики вперемешку с клаксонами, сиренами, громыханием строительных кранов и есть звукоряд Луанды. Тетушка Сесса, пожилая торговка, у которой я покупаю манго, силится сообщить мне что-то интересное, а может, даже что-то важное. Но из?за уличного шума никто никого не слышит. Ни я ее, ни она меня. В конце концов она разводит руками и произносит свое всегдашнее: «Только в Луанде».
Только в Луанде, где полчища маршруток и джипов мечутся в броуновском движении по дорогам города, не соблюдая никаких правил, не обращая внимания на разметку, беспрестанно надрывая клаксоны. Каждый идет напролом, берет на слабо, вклиниваясь и подрезая, и расстояние между твоей машиной и соседними составляет не более нескольких миллиметров. Но сколько ни подрезай, где-нибудь в центре все равно застрянешь. Иногда кажется, что вся моя жизнь в этом городе сводится к бесконечному стоянию в пробках и выслушиванию привычных ламентаций шофера, грузного человека с робкой бородкой. «Эх, будь у меня сейчас бронированная машина… – начинает он старую песню о главном. – Вот, помню, в девяносто первом у нас тут можно было купить бронированную. С мигалкой. Понимаешь? На такой лошадке тебе никакие пробки не страшны. Сукуама![13 - Черт возьми! (кимбунду)] Включаешь мигалку – и вперед… Я, между прочим, чуть было не купил тогда. Бронированную, да. Чуть-чуть бабла не хватило».
Только в Луанде, где в крепости Сао-Мигел (ныне – Исторический музей) догнивают последние МиГи и советская бронетехника. Где бельевые флаги плещут на ветру на верхотуре панельных домов с захламленными балконами.
Где вождю и поэту Агостиньо Нето построили мавзолей в виде ракеты. Где на одной из центральных улиц можно встретить граффити «Neto voltou como Prometeu». Вероятно, имелось в виду «Нето вернулся, как обещал» («Neto voltou como prometeu»). Но прописная буква заменила строчную, и получилось «Нето вернулся, как Прометей». А рядом: «N?o ha vagas» («Вакансий нет»). Где на лобовое стекло налипают личинки, падающие с неба, как снежинки. Где пахнет выхлопом, костром и какой-то растительной гнилью. Где в сухой сезон к семи утра солнце уже печет так, что на улицу не выйти, а ближе к вечеру на набережной ветер поднимает пыль – настоящая песчаная буря. Когда же эта буря утихнет, широкий закатный луч, скользящий по остывающей земле, наделяет каждый объект каким-то щемящим свечением. Силуэты прохожих кажутся вытянутыми, а тени укороченными. Можно ли по тому, как искривляются тени, определить местонахождение человека? Есть ли какая-нибудь особая луандская тень, как бывает особый свет – здесь и больше нигде? В Нью-Йорке темнеет медленно, ночь плавно опускается на город, а здесь ястребом падает с неба. Темнеет так быстро, как если бы кто-то щелкнул выключателем или вырубило электричество. Светает тоже не так, как в Америке: быстрее и в то же время как-то… нежнее, что ли. Ранний свет оседает на предметах тонкой пыльцой.
Только в Луанде, где торговки фруктами сидят на земле в тени раскидистых деревьев с диковинными названиями мафумейра и мулембейра, которые для кого-то значат не меньше, чем для жителя России – ольха и осина. Где даже в центре города асфальт, железобетон и стеклопакет не могут окончательно вытеснить исконно африканское – красную землю, приплюснутые кроны усыпанных красными цветами акаций. Где галька на променаде сверкает по ночам в тусклом свете городских фонарей, словно сотни светлячков.
В Луанде, где лачуги кроют ржавым рифленым железом и, чтобы такую крышу не снесло ветром, придавливают кирпичами. Где торговка на барахолке аттестует свой товар: «Мы тут нигерию не продаем». Имеется в виду, что это не подделка. Где «gasosa» (дословно: газировка) означает взятку, которую нужно дать полицейскому, чтобы он отпустил тебя с миром; врачу, чтобы выписал рецепт; администрации учебного заведения, чтобы выдали диплом. Где жители муссеков затемно занимают очередь к колонке с водой, но не стоят часами, а кладут булыжник, маркирующий их место в очереди. Как отличить один булыжник от другого? А как опознать свой черный чемодан Samsonite среди прочих на багажном конвейере в аэропорту? Как-то опознают.
Где, несмотря на нефтяной бум, на заправках случаются перебои с бензином. Где дети на пустыре день-деньской режутся в шашки (вместо шашек используют крышки от кока-колы), в суэку[14 - Карточная игра, популярная в Португалии и бывших португальских колониях.] или в настольный футбол на деньги. В обычный же футбол играют чем попало – жестянкой, мячом из ветоши, перетянутой веревками, а то и баскетбольным мячом (казалось бы, не очень-то поиграешь, но им – хоть бы хны). Где накануне футбольных матчей на улицу лучше не выходить: оглушающая музыка, транспаранты, грузовики, в которые набивается до сотни оголтелых болельщиков, ни пройти ни проехать. Где водители маршруток устраивают ночные автогонки. Где на вечеринках пьют что попало, мешают вино с водкой и подслащенной водой, приговаривая «фиш», что на местном сленге означает «нормально», но у меня неизменно возникают ассоциации с английской фразой «to drink like a fish» – «пить как рыба». Где от похмелья лечатся рыбным супом музонге.
Где вечерами подростки из муссеков слоняются по центральным улицам, околачиваются возле храма Святого Семейства, на Первомайской площади. Одни моют машины, чистят обувь, продают пирожки; другие бродят в поисках наживы, воруют бумажники или нападают с ножом, с пистолетом, примыкают к уличным бандам. В былые времена улицы патрулировали дружинники из Организации народной обороны. Говорят, при них было спокойней.
Сам я стал жертвой гоп-стопа только однажды – в мои первые недели в Луанде. В целом отделался малой кровью, но страх остался. Первое время я жил на руа Эдуарду Мондлане, рядом с кубинским посольством, в особняке с садом, где росли манго, гуава и папайя (хозяйка предупредила: «Смотрите, чтобы их не таскали обезьяны»; я так и не понял, шутила она или нет). Там было совсем безопасно, но я все равно боялся, запирался на все замки. На ночь оставлял свет включенным, а наутро, обнаружив, что он выключен, паниковал, хотя мог бы и догадаться: последняя лампа в квартире отключается автоматически вместе с генератором. Вспоминал ходившую в экспатских кругах историю нефтяника из Шотландии, страстного коллекционера масок чокве и других артефактов, влюбленного в Африку и африканцев; грабители убили его резным ассегаем из его же коллекции. Кажется, он жил где-то неподалеку… Потом я переехал в южную, менее благополучную часть Майанги и там, как ни странно, стал бояться меньше.
Больше всего в том особняке мне запомнился попугай: он был крайне разговорчив и даже знал несколько фраз по-русски (по-видимому, я был не первым русскоязычным постояльцем в этом доме). В сущности, я и сам – такой же говорящий попугай. Кое-как овладел португальским, но недостаточно, я это прекрасно понимаю. Из-за нехватки языка криво воспринимаю окружающую действительность. Помню: когда мы только приехали в Америку, родители думали, что сокращение «Dr.»[15 - Dr. – сокращенное «Drive» (проезд).] на уличных указателях означает «Doctor». Houston Dr., Maple Dr., Westpoint Dr. … «Удивительно, – восклицал отец, – здесь половина улиц названа в честь врачей! Мотай на ус, Вадя, в этой стране медицинскую профессию уважают».
Теперь я и сам примерно так же сужу о жизни. Не понимаю элементарных вещей, путаюсь в аббревиатурах и др. В плакате с надписью «Ave Maria», наклеенном на фасаде церкви, вижу название улицы, воспринимая «Ave» как сокращенное «Avenida». До сих пор путаю «cadeiro» с «carteiro» и «carteiro» с «carteira»[16 - Cadeiro – стул, carteiro – почтальон, carteira – бумажник. Здесь и далее пояснения португальских и английских слов и выражений не оговариваются особо.], то и дело сажусь в лужу. Тем более что и португальский-то здесь не тот, которому учит «Розетта Стоун»[17 - Популярная в Америке компьютерная программа для изучения иностранных языков.], а диалектный, с примесью кимбунду и других местных наречий. В книжках читаешь одно, а на улице слышишь совсем другое. Вместо «sim» (да) говорят «ia», вместо «muito» (очень) – «buе», вместо «ir embore» (уходить) – «bazar». От кимбундийского глагола «kubaza» отбрасывается инфинитивная приставка «ku» и прилепляется португальское окончание «-r» (вроде брайтонских глаголов «эксесайзиться» и «энджойить»). Связи с русским «базаром» тут никакой, но мнемоническая зацепка есть: если человек уходит из дома ни свет ни заря, он, скорее всего, отправляется именно на базар. Большая часть населения Луанды зарабатывает на жизнь розничной торговлей – на рынках или просто на улице, среди потока машин, предлагая каждому встречному свой лежалый товар. Взрослые уходят в четыре утра, а дети остаются дома. Вместо того чтобы пойти в школу, старшие братья и сестры нянчат младших. В муссеках всегда много детворы, оттого там и весело. Из динамиков доносится рэперский хит «Estou a bazar» («Я ухожу»), который я по незнанию перевел как «Я на базаре». Песня про базар «Конголензеш»? Про «Роки Сантейру»?
Про «Роки» мне рассказал попутчик, с которым мы разговорились в самолете из Брюсселя; это было первым, что я узнал о Луанде. Еще не успев ступить на ангольскую землю, я уже знал, что самый знаменитый рынок Луанды был назван в честь Роки Сантейру, персонажа бразильского сериала. Знал, что в разгар гражданской войны, когда страна голодала, там, и только там всего было в достатке, от свежего мяса и рыбы до подержанных машин (как правило, угнанных), которые предлагались вместе с водительскими правами и ускоренными уроками вождения. Еще там продавались паспорта, в том числе и дипломатические, а в лачуге с яркой вывеской «Частная служба безопасности» предлагались услуги по части «устранения личных и деловых проблем» – в диапазоне от избиения до бесследной ликвидации конкурента (любовника, мужа, соседа, бизнес-партнера – ненужное зачеркнуть). Все это я знал и в первые несколько недель пребывания в Луанде искал случая посетить это удивительное место. Ждал случая и в то же время боялся: знал, что там и наркодилеры, и торговцы оружием, и казино с борделями. Словом, совсем не безопасно. Наконец, набравшись смелости, попросил шофера отвезти меня к «Роки». Оказалось, рынок, названный в честь героя бразильского сериала, закрылся десять лет тому назад.
С телесериалами я знаком ближе, чем хотелось бы: первое время так же, как много лет назад, в период моего первого «великого переселения», пытался учить язык из телевизора. Но по телевизору показывали то старые бразильские шоу, то передачи про гламурную жизнь ангольских олигархов, то местные новости в двух итерациях, на полупонятном португальском и непонятном кимбунду, одинаково скучные на обоих языках. Неужели в Анголе никогда не происходит ничего интересного? Или, наоборот, столько всего уже произошло, происходило последние сорок пять лет, что сейчас людям больше всего хочется скуки, неинтересных или вообще никаких новостей? Не потому ли и послевоенную клептократию Сантуша приняли так безропотно? Пусть уж лучше будет худой мир, стабильная и предсказуемая диктатура родной партии МПЛА, запросто проделавшей путь от афросталинизма к петрокапитализму; пусть себе воруют, лишь бы не убивали. Пусть показывают сериалы «Windeck» и «Jikulumessu», где жизнь миллиардеров выдается за жизнь среднего луандца. Те, у кого нет ничего, смотрят по телику этот гламур, ненавидят богатых, мечтая стать как они, и – отдыхают душой. Пусть будет побольше телесериалов, бразильских или ангольских, все равно; побольше рекламы дорогих товаров, которые большинство не может себе позволить. Лишь бы не было войны.
После войны, в начале нулевых, здесь была специальная телепрограмма – она называлась «Ponto de Reencontro»[18 - Место встречи.]. Там показывали людей, ищущих своих близких. Каждое утро на съемочной площадке выстраивались огромные очереди. Когда до человека доходила очередь, он просто говорил в камеру: я такой-то, ищу сына, дочь, мужа, жену, брата, сестру, мать, отца… Родные, пропавшие без вести, были чуть ли не в каждой семье. До сих пор есть. В Луанде нередко видишь калек, у которых недостает одной или обеих ног. В Америке беднота лишается конечностей из?за диабета, а здесь это в основном люди, которые в поисках еды пошли в поле и подорвались на мине. Было время, французская гуманитарная организация под названием «Боль без границ» разъезжала по городам и весям, предлагая желающим электротерапию от фантомных болей. Mutilados da guerra[19 - Инвалиды войны.] выстраивались в очереди за электрошоком. Гражданская война официально закончилась в 2002?м, но пятнадцать лет – недостаточный срок, чтобы замести все следы. Слишком много было минных полей, изрешеченных пулями зданий. Нужно сильное обезболивающее, и, если местный опиум для народа уже не действует в постмарксистской Анголе, значит, пора переходить на импортные препараты. Морфий завозных теленовелл – не худший вариант.
С точки зрения изучения языка в бразильских мыльных операх не очень много проку: все-таки бразильский португальский довольно сильно отличается от ангольского. Зато опять-таки вспомнилось детство: «Рабыня Изаура». «Зачем тебе приспичило в Анголу?» – «Чтобы вспомнить советское детство». Кое-где на улицах еще попадаются «Нивы», а если повезет, даже старые поливальные машины, те самые, с желтым кузовом и голубой кабиной. Еще не снесли всех памятников рабочему и крестьянке.
Китай наступает на пятки, но и люди, говорящие по-русски, в Анголе до сих пор не перевелись. Да и вообще их в Африке много. Забавно слушать диалог двух африканцев с советским прошлым, приехавших из разных частей континента. Один – из франкофонной Африки, другой – из лузофонной. Оба учились в СССР, и единственный общий язык для них – русский. Русскоговорящих африканцев тут куда больше, чем собственно русских экспатов. Впрочем, речь не о языке даже, а о предметах быта. На луандских барахолках еще продаются советские радиолы. На языке мбунду радио – «онджа йепоперу», говорящий дом. В конце шестидесятых здесь ловили передачи МПЛА из Браззавиля точно так же, как мой отец в Ленинграде ловил Би-би-си и «Голос Америки». Да и некоторые из игр, в которые играют африканские дети, напоминают те, в которые играли у нас во дворе. Здешняя мелюзга тоже проводит много времени на улице. Это тебе не Америка, где все дети только и делают, что режутся в «Нинтендо» или осваивают «Майнкрафт». Впрочем, этого добра здесь тоже хватает.
Я люблю наблюдать с балкона или из окна машины. Быть здесь, но не здесь. Погружаться в чужой мир, сопереживать тому, что меня не касается и на что я никак не могу повлиять. Этот, в общем, безобидный вуайеризм как ничто другое примиряет с жизнью, прошлой и настоящей.
Вот дети играют в футбол на пустыре. Вот старик играет на баяне, нет, на аккордеоне, и к рубахе его приколот значок – кажется, пионерский. Вот из переулка выходит похоронная процессия, и женщины, идущие во главе, причитают «аюэ!» (почти что еврейское «ой-вэй»). Отряд плакальщиц в футболках с логотипом какой-то церкви. Многолюдные похороны с песнями, плясками, причитаниями и молитвами, со всеми почестями – в согласии с африканским обычаем, где каждого человека провожают как короля (а ведь еще совсем недавно, во время войны, бросали без разбору в братские могилы).
Вот рабочие-кимбангулейруш[20 - Строители.], человек десять, сгрудившись, едят что-то руками из общей миски, которую один из них (может, бригадир) держит на весу. Обеденный перерыв. Все делать вместе – это африканское. Вся пища – из общего котла. Этого у них не отнимешь. Всей деревней несут в больницу больного, кормят голодного, нянчат чужое дитя, отдают последнее. Забота о ближнем, взаимопомощь. Для них это на уровне физиологии, как дышать. А едят эти рабочие наверняка что-нибудь липкое и жирное. Калулу? Фунж? Фейжау? Кому-то ангольская кухня покажется несъедобной, а я все это сразу полюбил. Калулу – жаркое из сушеного мяса или рыбы с листьями жимбоа и красным пальмовым соусом. Фунж – густое, тягучее пюре из маниоки. Фейжау – бобы в пальмовом масле. В гостинице, где я провел первые несколько недель моей африканской жизни, мне предлагали незатейливые яичницы за тридцать долларов, клеклые булки за пятнадцать, вязкий и приторный апельсиновый сок. Я давился всей этой дрянью и даже не подозревал, что в палатке за углом тетушка Зефа кормит вкуснейшей ангольской едой – жарким из козлятины, кизакой[21 - Блюдо из тушеных листьев маниоки.] с креветками, фариньей финой[22 - Одна из разновидностей маниоковой муки.] или фунжем из желтой муки с фейжау и сушеной рыбой капарау – практически за бесценок.
Все-таки хорошее изобретение эти палатки, лотки, где можно задешево купить все, что хочешь, от микондо до шелковой рубахи с набивным рисунком. В первые месяцы меня особенно радовали такие вроде бы незначительные бытовые моменты; они утешали, и я начинал придавать им преувеличенное значение: например, старательно напоминал себе, как я люблю ангольское пиво «Кука». Com um cora??o Angolano[23 - «Com um cora??o Angolano» («с ангольским сердцем») – реклама и распространенная расшифровка названия «Cuca», самой популярной марки ангольского пива.]. Теперь же, когда я научился, как мне кажется, просто наблюдать, в этих бытовых обманках пропала всякая необходимость. Там, где меня давно уже нет, я продолжаю присутствовать – даже помимо моей воли. А здесь, в этом удивительнейшем из африканских городов, меня почти нет, и потому мне ничего не стоит считать его своим.
Глава 4
Гольднеры прилетели в Америку в июне 1990 года. Родственники встретили хлебом-солью, а точнее, пиццей – той, что продается в магазине «7-11». «Пиццу будете?» Жара, какая-то пыльная стройка, сетка-рабица, а за ней – многоэтажные гаражи. Вот и все, что Вадик воспринял по пути из аэропорта Кеннеди.
Потом был двухмесячный постой в Бэйсайде у отцовской сестры, тети Ани, которая так долго агитировала их на переезд, но встретила без особого энтузиазма (куда подевалось то радушное и радужное, что переполняло ее заокеанские письма?). К моменту их прибытия тридцатипятилетняя Аня прожила в Америке двенадцать лет. «Если хочешь быть саксесфул, – наставляла она старшего брата, – надо научиться двум вещам: маркетинг и малтитаскинг. Твоя теоретическая физика из нот ин демэнд, ты должен попробовать пробиться в программисты. А на первых порах можно и такси поводить. Вон Аркаша, наш сосед, водил, водил и в конце концов купил медаль на машину. Теперь он – рич. Это тоже надо уметь». Аркаша, грузно-угрюмый человек в тонированных очках, объяснял свой успех неукоснительным следованием первой заповеди эмигранта: «С трудоустройством у нас ноу проблэм: мужики – в водилы, бабы – в хоматенды[24 - От англ. home attendant – «домработница».]». «Хоматенда» представлялась Вадику мягким зверем из неведомой сказки, помесью пантеры Багиры и хомяка. Пятнистая Хоматенда и муж ее, Коверкот.
Сама тетя Аня, поднаторевшая как в маркетинге, так и в малтитаскинге, делала карьеру пиарщицы, увлекалась аэробикой и латинскими танцами, растила двоих детей и разводилась с мужем Мариком, одновременно подыскивая себе нового, более перспективного партнера. Мечась между аэробикой, свиданиями и корпоративными встречами, она вечно мучилась вопросом, куда ей пристроить детей. По выходным Марик забирал их к себе в Нью-Джерси, но в будние вечера Ане ни от кого не было помощи. Приходилось загонять их в кровать к восьми часам («У нас в семье все ложатся рано: эрли ту бед, эрли ту райз – кори и хвори не знать!»), чтобы потом, едва дождавшись, пока они уснут, запереть дверь в детскую и улизнуть из дома, точно подросток. Таким образом, ей кое-как удавалось справляться с нелегкими жизненными обстоятельствами, и, хотя приезд брата с семьей оказался весьма некстати, она рассудила, что и из этого в целом обременительного присутствия можно извлечь определенную пользу: «Раз уж вы тут у меня живете, я надеюсь, не откажетесь побебиситить Мэтика и Джесичку». Мэтику, как и Вадику, было одиннадцать лет. Тетя Аня любила повторять, что он – «мэн оф зе хаус». Мужчина семью держит. Еще в Ленинграде Вадик не раз слышал от родителей о незаурядных лингвистических способностях двоюродного брата: дескать, Мэтью, хоть и родился в Америке, настолько хорошо владеет русским, что даже знает слово «кибитка». Это оказалось чистой правдой. Помимо «кибитки» его русский словарный запас включал слова «абрикос» и «спасибо». Вадик же, в свою очередь, знал примерно пять слов по-английски, но пустить их в ход боялся, так как Мэтик и Джесичка тут же принимались передразнивать его русский акцент.
На лето Вадика отправили в еврейский лагерь. Там играли в непостижимый бейсбол, а в полдень всем выдавали пакетики с яблочным соком и подтаявшее ванильное мороженое в размокших бумажных стаканчиках. И хотя все это было крайне невкусно, Вадик все утро ждал полуденного перерыва и очень расстраивался, когда перерыв заканчивался. В эти минуты он испытывал облегчение, потому что мог молчать наравне со всеми детьми, так же, как они, сосредоточенно поглощать десерт и тянуть сок через трубочку. В остальное же время он выделялся своей бессловесностью, чувствовал себя пугалом, застывшим посреди бейсбольного поля, не понимая, что от него хотят в этой всеамериканской игре с битами, базами и щитками. Кроме него, в лагере был еще один русский – рыжий и пухлый мальчик из Бобруйска. Тот приехал в Америку на три месяца раньше Вадика и уверял, что за это время успел напрочь забыть русский язык. Настаивал на своем исключительном англоязычии, затыкал уши, когда Вадик заговаривал с ним по-русски. При этом английским он владел еще хуже, чем Вадик, и общение получалось так себе. Например, приглашая Вадика поиграть с ним в баскетбол (вечерний факультатив после обязательного бейсбола), мальчик говорил так: «Итс ми, итс болл, итс плей?» Вадик, уже привыкший к этому недоязыку, отвечал в пандан: «Итс окей».
Когда родителей освобождали от обязанностей сиделки и домработницы, они отправлялись гулять по вечернему Квинсу. Правда, выйти всей семьей у них почему-то не получалось: Вадик поочередно гулял то с матерью, то с отцом. Во время этих прогулок мать Вадика плакала и предлагала вернуться в Ленинград. Отец же, наоборот, крепился и говорил Вадику, что, если не найдет ничего лучшего, подастся в таксисты, как советовала ему сестра. «Или пиццу буду развозить – тут это, кажется, не считается зазорным. Подзаработаю денег, купим тебе джинсы!»
Но все обошлось: в начале сентября того года отец подписал двухгодичный контракт с Чикагским университетом, и семья перебралась на Средний Запад. Там Вадику купили не только джинсы, но и кроссовки. Причем не просто кроссовки, а крутые, в стиле Air Jordan, о которых мечтал в то время каждый американский подросток. На настоящие Air Jordan у родителей не хватило денег, и они купили другие, почти такие же, но не за двести, а за тридцать долларов. Разница сводилась, в сущности, к тому, что на одних было написано «Air Jordan», а на других – «AJ-900». И из?за этой разницы над Вадиком потешался весь класс. Если бы он пришел в школу в обычных, некрутых кедах за десять баксов, никто бы и не заметил. Но эти, почти модные, почти Air Jordan… «Это у тебя что, Air Jesus?» – поинтересовался школьный остряк. Злополучные AJ-900 были отправлены в мусорку, но возгласы «Air Jesus!» еще долго сопровождали Вадика в школьных коридорах.
А через два года они вернулись на Восточное побережье с пополнением: у Вадика появилась младшая сестра Элисон. Теперь они поселились в городке с индейским названием Матаванда, предместье Олбани, упоминающемся еще у Германа Мелвилла. Что-то там про «секту безумных шейкеров из Матаванды». Когда четырнадцатилетний Вадик наткнулся на эту фразу у автора «Моби Дика», он подумал, что ее можно будет взять эпиграфом ко всей его дальнейшей жизни. Но вскоре они переехали в соседнюю Трою, и эпиграф из Мелвилла навсегда потерял актуальность. Зато появились новые: из Драйзера, из Воннегута.
Воннегут жил в Трое в пятидесятых годах и, между прочим, работал, как и отец Вадика, на компанию «Дженерал Электрик». Действие чуть ли не половины его романов происходит в городе под названием Ilium, то есть Илион. Отсюда родом и выпутавшийся из времени Билли Пилигрим, и изобретатель «льда-девять» Феликс Хоннекер, и герои «Механического пианино». А писатель-фантаст Килгор Траут, авторское альтер эго, проживает в соседнем Кохоузе, который, в отличие от Трои, фигурирует в произведениях Воннегута под своим настоящим названием. Кроме того, не следует забывать, что Троя – родина Дядюшки Сэма. Прототип бородатого дядьки в цилиндре со звездой, в синем мундире, белой рубахе и красном шейном платке, наводящего палец-дуло на тех, кто еще не записался добровольцем («Армия хочет тебя!»), действительно жил в Трое в первой половине XIX века. Его звали Сэм Уилсон, он был владельцем мясозаготовительной фабрики, поставлявшей провиант на фронт во время англо-американской войны 1812 года. Была у него и другая фабрика: кирпичная. И по сей день, проезжая мимо кирпичных трущоб этого города, посетитель, если он подкован в американской истории, не может не умилиться: кирпичи с фабрики Дядюшки Сэма. «Ilium fuit, Troja est», – гласит официальный девиз американской Трои, взятый из Энеиды. Илион был, Троя есть и поныне. «Все, что когда-нибудь было, есть и будет всегда», – поправляют воннегутовские всевидящие пришельцы с Тральфамадора. Все эти сведения уже взрослый Вадик выудил из интернета за один вечер, загоревшись странной идеей составить свою «американскую родословную». Дескать, надо понять, кто он и откуда.
До того как Гольднер-старший в очередной раз потерял работу и семье пришлось перебраться в Трою, Вадик учился в привилегированной пригородной школе, где, как полагается, третировали слабых и странных. Вадика, прибывшего из Чикаго новичка с русским акцентом, на первых порах не трогали. Он кропал статейки в школьную газету, пару раз участвовал в театральной самодеятельности и, как все, у кого не сложилось с футболом и баскетболом, увлекался восточными единоборствами. Он даже считал себя способным к этому делу, потому что Миша Гитович, преподававший карате в Центре еврейской общины Чикаго, однажды сказал его родителям, что у него «крепкие кости и вообще – то, что доктор прописал». Что именно прописал доктор, родители уточнять не стали. Им, как и Вадику, было ясно, что Миша – несомненный эксперт.
В том живописном городке, куда они приехали из Чикаго, в двадцати километрах от исторических развалин Трои и Кохоуза, люди жили размеренной, неинтересной жизнью. Семья Вадика поселилась на Мэйпл-Роуд, в одной из съемных квартир жилого комплекса «Толл-Оукс», но ни кленов, ни дубов там не было – улица была обсажена тополями. Это забавное несоответствие врезалось в память Вадика как некий символ той жизни в преломлении его подросткового восприятия. Стандартное название и стандартный вид из окна; совпадают они или нет – не важно, потому что за ними ничего не стоит, кроме стремления соответствовать стандарту. Все вокруг казалось приблизительным воплощением какого-то усредненного идеала: подстриженные газоны, однотипные дома с дверями из разноцветных стекол, скворечни почтовых ящиков, стрекот поливочных установок, шкатулочная мелодия, доносившаяся из грузовика мороженщика, весь герметичный пригородный мир, рекламная картинка благополучия.
Там, где кончался пригород, начинался лес, который Вадик долгое время не умел как следует разглядеть. Ему потребовалось почти четверть века, чтобы пейзажи Северного Нью-Йорка, самые родные, внезапно проступили сквозь напластования памяти во всей драгоценной полноте первичного впечатления. Это долина Гудзона, ее индейские названия и прибрежные холмы, красоты, с которыми мало что сравнится. Железнодорожный маршрут «Амтрак» от Ниагары и Буффало до Столичного округа и дальше – вдоль великой реки – мимо Райнклифа и Покипси. От Адирондакских гор до базальтовых скал Ньюберга и Уэстчестерского эстуария, а оттуда – в сам город Нью-Йорк, куда Вадик перебрался по окончании колледжа. Всю свою жизнь он перемещался с севера на юг. Но сейчас, в Луанде, ему снится что-то из прежней жизни, и в этом сне он едет в обратном направлении, вверх по Гудзону.
Когда старшеклассникам надоедало привычное пережевывание жвачки «кто-куда-с-кем», они развлекали друг друга городскими легендами. В числе прочих ходила байка о маньяке, еженощно боксирующем с тенью на улице в обнаженном виде. Где-то в середине учебного года школьный заводила по имени Билл Мерфи пустил слух, что Вадик и есть тот самый боксер-эксгибиционист. Он даже придумал кличку: Голый Драго. Собственно, кличку можно было расценивать как комплимент. Драго – это русский гигант, которого играл Дольф Лундгрен в фильме «Рокки IV». Значит, Мерфи увидел в Вадике качка, хотя атлетическим телосложением Вадик никогда не отличался. Примерно в таком духе Вадику и следовало бы ответить, когда Мерфи подозвал его, чтобы «вывести на чистую воду» в присутствии двух хихикающих красоток. Дело было в школьном автобусе, развозившем учеников по домам после уроков. Они сидели где-то в хвостовой части, где всегда сидят заводилы и их хихикающие девицы, а Вадик – спереди, уткнувшись взглядом в затылок водителя.
– Эй, слышь, ты… да, ты… подойди-ка сюда на минутку, вопрос есть. Подойди, подойди, не ссы. Вот у меня тут свидетели. – Он показал на девиц. – Ты же не станешь отрицать при свидетелях?
– Что отрицать?
– Что ты – это он.
– Кто «он»?
– Как – кто? Голый Драго!
Сведи Вадик этот идиотский разговор к шутке, все могло бы сложиться иначе. Но остроумия в нем было еще меньше, чем богатырства Дольфа Лундгрена. Не найдя что ответить, он со всего маху заехал обидчику по носу. Из носа хлынула кровь. Девицы завизжали. К удивлению Вадика, Мерфи не замахнулся для ответного удара, а закрыл лицо руками и, по-детски всхлипывая, забормотал: «Уходи, уходи сейчас же, иди обратно на свое место…»
В Чикаго, где Вадик провел первых два года своего американского детства, мальчишки дрались чуть ли не на каждой перемене и в целом относились друг к другу по-человечески. А тут, в сонном пригороде Олбани, школьники изобретали самые изощренные способы травли, сживали какого-нибудь бедолагу со свету прямо на глазах у педагогов, но драки боялись как огня. Даже верзилы в футбольных майках с подплечниками шли на попятную, ни на секунду не забывая, что за рукоприкладство могут исключить из команды, а то и из школы. Так что месть в форме физической расправы ему не грозила.
Посовещавшись, Мерфи и компания решили объявить чужаку бойкот. Вадика это только позабавило: ни с кем из окружения Мерфи он и так не общался. Но он недооценил серьезность «дипломатических санкций». Уже потом он узнал, что отец его недруга приятельствовал с директором школы, грозным и одышливым мистером Деанджело. Они состояли в одном и том же кантри-клубе. После инцидента с Мерфи-младшим Вадик был якобы занесен в «черный список». Список, которого никто никогда не видел, но о котором все слышали, раздолье для конспирологии. И вот уже воображение Вадика рисует красочные картины: где-то там на пиру бессмертных, то есть во время чаепития в учительской, отведя кого-нибудь из коллег в сторонку, тучегонитель Деанджело советует не ставить ученикам, числящимся в его списке, оценок выше «B-». Заваливать тоже не надо, пускай успеваемость у этих учащихся будет чуть ниже средней. А когда придет пора поступать в вузы, им напишут характеристики, с которыми принимают разве что в коммьюнити-колледж.
К счастью, в коллективе всегда найдется несколько вольнодумцев, не готовых стать орудием травли по воле начальства. Одним из таких вольнодумцев был учитель истории мистер Бэйшор. Это был пожилой человек с заячьей губой и жидкими усиками. Он носил старомодные очки с толстыми линзами, из?за которых его глаза выглядели неправдоподобно большими и доверчивыми, как у персонажей мультфильмов. Когда же он снимал очки, чтобы протереть стекла, в его близоруком взгляде Вадику мерещилась какая-то перегоревшая обида – скорее всего, на себя самого.
По его собственному уверению, Бэйшор был совестью школы. Его давно хотели уволить, но он держал какие-то козыри против «крестного отца», как он называл директора школы, и потому оставался на месте. Начиная с девятого класса он взял Вадика с дружком Дэйвом под крыло. Они стали регулярно бывать у него дома. Он вообще любил опекать неприкаянных и даже создал для этого кружок под названием «Форум для свободных дискуссий», куда созвал всех белых ворон и черных овец. Члены клуба дискутировали на самые разные темы, а заодно узнавали от наставника кое-что из того, о чем им не полагалось знать. Например, о деанджеловском «черном списке».
Существовал ли он на самом деле, этот список? Или же Бэйшор, сам толком не зная, что к чему, выдумал его ради душевного спокойствия своих подопечных – подобно тому, как медицина придумывает названия недугам, которые она не в состоянии объяснить? Ведь есть же симптомы – сердцебиение, общее недомогание, стойкое ощущение, будто что-то не так. Раз нет ни объяснения, ни лекарства, пусть будет хотя бы название – фибромиалгия, черная немочь или черный список. Любое название будет правильным, потому что другой правды не найти. И даже если никакого списка и не было, Вадик все равно был уверен, что в этой школе ничего хорошего его не ждет.
Два известия поступили почти одновременно: как-то за ужином Вадик объявил, что попал в число неугодных, а отец – что потерял работу и, стало быть, отныне квартира на Мэйпл-Роуд будет им не по карману. Две неприятные новости складывались в одну приятную: переезд.
Но это было потом. А в тот день, когда он заехал по носу Мерфи и, осыпаемый ругательствами, вернулся в переднюю часть автобуса, обнаружилось, что его место уже занято розовощеким парнем в джинсовой куртке и футболке с надписью «Динамо Киев». Весело подмигнув, парень с ходу заговорил по-русски.
– Разобрался с ним? – спросил он, кивая в сторону Мерфи. – Ну и правильно. Знай наших.
– Да я, если честно, даже не понял, чего он ко мне полез, – признался Вадик.
– Забудь. Этот моржовый по ходу ко всем русским приебывается.
– А разве тут много русских?