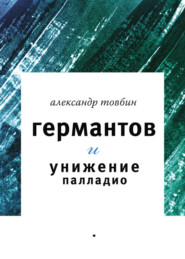По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И оттолкнувшись от какой-нибудь случайной темы, случайного эпизода, а то и случайно брошенного кем-то посторонним словца, торопливо, увлечённо, весело пересказывал-писал-сочинял на собственный лад, пока не спохватывался, что насвистывает давным-давно знакомый мотивчик, трогательный и тревожный, как предвоенный вальс.
В том-то и фокус, не усмехайтесь!
Где-то, когда-то, независимо от Соснина, хотя и адресуясь ему, был отлит в гармоническом, недосягаемом совершенстве текст, художественный эквивалент целостной жизни, который, распавшись под оплавляющим ударом бог знает чего – пусть молнии, пусть болида – испытывал теперь нагромождениями будто б первозданного хаоса.
Однако новоявленные нагромождения имели мало общего с грудами мёртвых, замшелых с одного боку руинных камней, разбросанных роком в достойных кисти романтика позах вечного сна. Это была подвижная, перекрашивающаяся почище клубка хамелеонов да ещё и многоголосая, будто групповое выступление чревовещателей, стихия, погружаясь в которую Соснин преломлял свои взгляды, слушал детские лепеты, крики, срывающийся отроческий фальцет – вспученная, засасывающая и тут же отвердевающая стихия хаоса образно воспроизводила тайны уже не только кем-то другим сочинённого и теперь разгадываемого им и с переменным успехом пересказываемого, в сомнениях перекладываемого на бумагу чужого текста, но и его собственного сознания. – А ну-ка, – поддразнивал препротивный внутренний голос, – побалуй-ка и потерзай себя, разберись во всём или хотя бы в чём-нибудь сам, а потом интригуй и путай других, разбирай спекшиеся завалы, наводи порядок, ну-ка, посмотрим на что ты годен. И он затруднённо продвигался в хаосе содержаний-форм и понятий-образов, и знание о себе самом выдавалось ему скупыми порциями, как выдаётся укротителем колючая рыбёшка за робкие успехи неповоротливому тюленю, чтобы тому не расхотелось запрыгивать в обруч.
Но кого вздумал он интриговать и путать, кого именно ему выпавшее, такое простое, такое невероятное приключение-прозрение могло бы заинтересовать? Нет, его не посещало высокомерное желание кому-то открывать глаза, указывать путь… просто какая-то сила толкала, резонируя с сердцебиением, он действительно не мог отступиться. Что за суверенная мания? Ведь и Илья Маркович вёл свой итальянский дневник, не зная, что появится племянник, прочтёт. И Художник, когда писал «Срывание одежд», не знал, что будто бы специально для Соснина свой многотрудный холст пишет! Да! И – совсем странно – даже картинное обращение Савла в Павла, чувствовал, написано для него искуснейшим веронцем-венецианцем, не только для него, конечно, для многих, очень многих, но для него – точно!
Мания замкнутости, каким-то образом открывающаяся для других?
Для кого-то ведь писал, сам не зная того, и подвальный сиделец из их двора. Столько унижений стерпел, чтобы тихо, незаметно писать; боковым зрением Соснин ощупал шероховатый пудожский цоколь с меловыми буквами, стрелкой, тянущейся от раструба водосточной трубы к окошку; интересно, что он смог написать?
А он, он сам – для кого?
И как он напишет, если напишет, как?
И что поймёт он, если создаст?
Найдёт ли свою форму? Или… ха-ха-ха, не форму, а как потом будут говорить – «формат»! Ха-ха, формат!
Нет, до воцарения формата, надо отыскать свою форму.
Шанский посмеивался над «как» Валерки Бухтина, его ключевым, если не отмычечным для формализма словечком. Соснин вслушивался в голоса Валерки и Тольки, следил за столкновениями их неиссякаемых идей, потоков слов, а заодно – за столкновениями и метаморфозами облаков… деревьям было тесно в закутке сада, тёмные ветви вязов, клёнов, простираясь над жёлтой стеной, тянулись к грязненькой Пряжке. И опять он убирал стену, вместе с решёткой, часовней, вместе с дополнительными чёрными железными воротами; в отличие от главных ворот, к ним не подкатывали «Скорые», эти ворота связывали растрескавшийся и местами просевший асфальтовый проезд, тянувшийся меж стеной и травянистым берегом Пряжки, с хозяйственным двором больницы, куда выходили разновысокие грубо обитые жестью двери кладовых, сараев с инвентарём, где высилась между полуобвалившимися крыльцами морга и кочегарки куча угля, стояли бачки – ветерок доносил сладковатую вонь; неожиданно ворота с громким скрипом открывались, что-то привозили грузовики, вывозили мусор.
Итак, он властно убирал стену, замыкался в других, удалённых подчас пространствах, и столько слышал, видел ещё.
Ведь помимо наслоений бессчётных натуральных картин Соснина дразнил ещё и ворох кем-то отснятых слайдов, которые осталось озвучить, склеить. Вернее, отсняты они были тоже им, а не кем-то посторонним, так, во всяком случае, ему казалось, во всяком случае, то, что хранили слайды – опасливо и наугад вытаскивал из вороха то тот, то этот – относилось лишь к нему одному, однако он-то и был чужим, посторонним, покуда жил, копил впечатления. Теперь же он смотрел в себя и на себя пытливо-жадно, критично: его жизнь уже была материалом.
И до чего же своенравно вёл себя этот материал!
блуждая меж образов утраченного времени и, стало быть, утраченного пространства
Ну, вот хотя бы…
Или нет, лучше… Лучше так: встреча в метро с подвыпившим одноклассником, вереницы молодых лиц, улыбающихся со старых фото, невзначай подслушанный разговор могли, не считаясь с внутренним сопротивлением, вернуть в прошлое, чаще всего во дворы мрачноватой улицы, где увидел впервые солнечный свет и небо. Подчиняясь жестокой фабуле детских игр, дрался, оборонялся от наседавших врагов с саблями наголо, убегал, подгоняемый издевательским свистом, от толстой дворничихи Ули, петляя между дровяными поленницами, накрытыми толем или ржавой листовой жестью. И в этом возвращении поначалу не обнаруживалось ничего странного: так, или примерно так бывает со всеми. Но стоило пересечь по булыжникам рельефную коричневатую утробу Большой Московской – вот и сейчас пересекал её, запомнившуюся до руста и пухлого, с обломанным на конце окантом, штукатурного кронштейна, перелетев сюда из Коломны; пересекал и, оглянувшись зачем-то на круг чёрных чугунных тюбингов, отметину довоенной шахты метро, – круг выпирал в центре мостовой… – итак, итак, по возможности, всё – по порядку: убрав напрочь или перемахнув больничную стену на берегу Пряжки, перелетал из Коломны к гастроному, тому, что на углу Владимирской площади и Большой Московской, пересекал по булыжникам Большую Московскую и тут же подозрительно быстро, будто бы обозначая смену театральной картины или вовсе размывая и без того призрачную границу между реальным и воображённым, вырубался всесильной рукой небесный рубильник, в сумеречном, как чудилось, искусственном затемнении, расплывались овалы лиц, разговоры приглушались до неразборчивости, а родные пространства и силуэты, окружавшие Соснина, смыкались и обобщались. Обходя цинковые баки с отбросами, которыми лакомились какие-то жирные твари, брёл в полусне из арки в арку анфиладами проходных дворов, там и сям – слева, справа – замурованных тупиками, выделял в нудно-однообразной череде провалов и нависаний глубокие расщелины, взрезающие углы плоской кирпичной плоти. С изнанки города экономные живодёры содрали лепную кожу. Отвесные гниловатые срезы впивались зубьями в лиловое небо, зияли квадратами пробоин и плевы, но сочившаяся из окон тусклая желтизна ничего не могла подсветить, кроме всё тех же голых и гладких, палевых, землисто-коричневатых утёсов с ломаным верхом, сросшихся в ячеистый костяк города.
И поэтому, войдя во двор где-нибудь на Большой Московской или близ неё, на Малой Московской, на Загородном, в Щербаковом переулке, а возможно, что и под графитным эркером где-нибудь в сумрачном Свечном переулке, Соснин мог бы потом выйти из того двора где угодно, хоть на другом берегу Невы, прыгнуть на Введенской или Зелениной в дребезжащий и болтающийся трёхвагонный трамвай и понестись, раскачиваясь из стороны в сторону, мимо умбристых, серых, желтоватых домов, согнанных в дырявые ряды тополиными хлыстиками, предвкушая восхитительный пикник с сайкой и газировкой с двойным сиропом под ивами ЦПКиО. Вечером можно было отвалить от маленького бело-голубого дебаркадера с безвкусной резьбой, прижатого к малахитовым купам, и медленно-медленно, посматривая с обшарпанной закруглённой кормы на обмакнувшийся в залив задник заката, поплыть обратно в город на низком обтекаемом катере, который бы вздрагивал склёпанным кое-как железным тельцем, изрыгая из недр малосильной, но старательной машины зловонные облачка. И если бы Соснин подплывал к гранитным набережным и цветным дворцам в августе или сентябре, то выбивающийся из сил катер поджидала бы тёмная ртутно-густая Нева. Вода лоснилась бы и тяжело пошевеливала розоватыми, в бирюзовых разводах складками, кое-где сминаемыми свинцовой рябью, и шафрановый след заката уже терялся бы впереди, под фермой моста, в росчерках заводов и порта, а приземистую и без того панораму дворцов придавливала бы мрачная, сказочно-лохматая, как звериная шкура, туча, в какой-то миг готовая покончить с силуэтным господством башенки на кунсткамере. Кромешная тьма за парапетом набережной, лишь сгущаемая от мигания рубиновых автомобильных глазок, притягивала бы сносимый течением катер, он прицеливался бы к причалу-поплавку, увенчанному теремком ресторанчика с контурной ядовито-анилиновой неоновой рыбиной, под хвостом которой уже пиликал оркестрик и танцевали, и теснились бы в боковых проходах, дотравливая анекдоты, выбрасывая окурки за борт, полупьяные усталые нетерпеливые путешественники, и словно от тычка бортом в смягчавшую удар шину засветились бы вдоль набережной бусины фонарей, зазеленели бы под ними закруглённо остриженные макушки лип. А случись так, что Соснин возвращался бы с Островов под конец ясного и длинного, как сегодня, дня, то вода, небо ещё долго-долго и после его возвращения переливались бы жемчужно-сиреневыми оттенками, но, взбежав на берег по циклопическим расходящимся веером гранитным ступеням, он не залюбовался бы нежными переливами, в которых будет утопать город и после рубежного перезвона курантов на Петропавловке, привычно превращающего июльский вечер в белую ночь, а поспешил бы на продавленный каблуками тротуар Невского, чтобы успеть прошвырнуться в принаряженной толпе туда-сюда, постоять с ватагой приятелей – вот и Антошка Бызов с Толькой Шанским, замеченные у «Те-Же», перебегают перед трезвонящим трамваем Литейный, а-а-а, на углу Владимирского, у будущего «Сайгона», ждёт зелёного сигнала, хотя они не сговаривались, Валерка Бухтин, по прозвищу Нос. И некоронованный король Брода, неотразимый, с пшеничным, скульптурным, как гребешок на боевой каске, коком и профилем римского легионера Валя Тихоненко – на своём посту меж двух облицованных зеркалами простенков; на Вале, само собой, – тёмно-синий бостоновый, сшитый английским портным пиджак, в меру яркий шёлковый галстук, зауженные светлые брюки с манжетами… правая рука с пугающе торчащим из синего рукава протезом кисти повисла. С привычной отрешённостью вращая на пальце левой руки кольцо с ключами, Валя благосклонно кивает, словно старым друзьям-соратникам, и они кивают ему, польщённые, и Шанский, вопросительно посмотрев на одноклассников-вундеркиндов, дождавшись уже их кивков, окликает знакомых девчонок из трёхсотой школы, и все вместе они успевают на последний сеанс в «Титан» ли, «Октябрь», где их давно знают билетёрши, и вот они уже в призрачном затемнении кинозала озвучивают титры трофейного фильма жарким шёпотом, многозначительными смешками, шуршанием фольги и отламыванием шоколадных долек…
Но – находился ли выход?
Нет, выход не находился потому хотя бы, что блуждающий по дворам Соснин искал выход не столько в ностальгическую эмоцию, сколько в волшебную реальность искусства, где, собственно, ему, не знающему пока какова она, вторая реальность, лишь ищущему её, и хотелось обосноваться, перемогая тупость обыденности и открывая при этом, если повезёт, что-то важное в себе и времени, в своём времени, и в том, в котором ему выпало очутиться.
Хотя… было бы ошибкой считать… И впрямь он запутался. Разве шагая из арки в арку, он не шагал уже по этой до боли осязаемой и фантастически-конкретной, возвращённой из прошлого, но преображённой искусством реальности?
И конечно же, было бы ошибкой считать, что эмоции ни при чём – его будто бы бесследно стёртое с лица земли прошлое возрождалось: никто не скакал в нарисованных белыми, лимонными, голубыми мелками классиках, не метил в пирамидку медяков круглой свинцовой битой, а слёзы комком забивали горло, не позволяя прорваться слову, хотя чувствовал, слово вот-вот прорвётся.
Но почему – задумчиво замирал – почему руины принято исключительно искать в прошлом?
Разве не здесь и сейчас всё рушится?
Вот хотя бы, вот вроде бы единичный случай…
Нет, нет, всё то, чем чреват был именно этот случай, выяснится потом, всё это можно будет увидеть и понять, оглянувшись.
Брёл из арки в арку, вокруг него, дабы не отставать от пространства, растекалось в зыбучей полутьме время. Не понять было день или ночь, зима или лето втянули в тревожную прогулку по дну беззвёздных колодцев, где разлился на месте послевоенных дровяных плотин и заторов асфальт, жмутся к штакетнику рахитичные деревца. И вдруг звёзды, засияв, мелькали в разрывах и опять затягивались разбухшей паклей, деревца испуганно вздрагивали запылёнными листочками или прямо на глазах Соснина оголялись с бесстыдной поспешностью, но не успевала краснолицая распустёха Уля, дворничиха в серых валенках с глубокими чёрными галошами и одетом поверх ватника грязном фартуке с тусклой латунной бляхой, вымести обноски осени, как ударял мороз, скованные ветки с мерной безнадёжностью клацали одна о другую, будто ветер дирижировал замедленным танцем скелетов, и сонмом тоскливых пронизывающе-холодных звуков отзывалось им эхо, сверлило затылок, смешивалось с незнакомыми простывшими голосами, однако за поворотом заиндевелой стены случалась оттепель, кап-кап-кап – с наигранной весёлостью взблескивала, долбила капель, и кое-как держась за костыли и проволочные скрутки, толстыми поблескивавшими кишками свисали с карнизов водосточные трубы – они, напоённые талой влагой, оживали, плотоядно урчали в коленях, раструбах и с внезапным грохотом светопреставления проваливалась ледяная пробка, разбрызгивалась сверкающими осколками… Разведя хвосты веерами, шумной тучей взлетали голуби. И опять делалось тихо, опять Соснин не понимал когда это происходит, где, а если надумывал узнать, спросить, редкие пошатывающиеся фигуры с плоскими безглазыми лицами не отвечали, шмыгнув в ближайший подъезд, прикидывались тенями на занавесках. Зато Соснин начинал догадываться к какому символу, к какому ещё визжащему тормозами повороту сюжета приладятся его блуждания среди безутешных стен и чужих голосов, сопровождённых сигаретными огоньками и гитарным бренчанием в наглухо задраенных подворотнях…
Оставалось понять как приладятся.
заминка (очередная) в блужданиях меж тех же образов
«Изобразительный – он же, выразительный – ряд, непосредственно воспринимаемый визуально благодаря движению или относительному покою фактурных и цветных форм, при переводе на вербальный язык неузнаваемо трансформируется, ибо буквальный его перевод в словесный материал попросту исключается, эстетическая же весомость слов, заменяющих визуальную информацию, определяется не их понятийными значениями, а воплощённой в художественных образах мыслью, и поэтому следует…» – о, если бы читая когда-то научные рекомендации московского теоретика, Соснин был повнимательнее! Но теперь, мусоля то один возможный вариант продолжения, то другой, он никак не мог припомнить ударный конец тирады, не понимал, что следует ему сделать, чтобы отчеканить в слове увиденное, хотя застарелый для него спор глаза и языка уже не казался ему неразрешимым – откуда-то из питающих глубин подсознания всплывали близкие изобразительному ряду состояния и настроения, лица наводились на фокус и годились для портретирования, оживали вроде бы затёртые или полузабытые слова…
Начав догадываться о скрытом смысле происшедшего с ним и теперь по его же воле происходящего заново и иначе, он вполне мог бы заметить, что посветлела нездоровая желтизна флигельных перемычек, что туман в голове слегка рассеялся, солнце улыбнулось ему, позолотив карнизы нищенским набрызгом. Но тут же стемнело, тут же он позабыл о своих, несущих смутные смыслы и потому не очень-то дорогих словах, и завороженный взлетевшими вдруг высоко-высоко лебедино-белыми, огненно-оранжевыми, едко-зелёными подвижными буквами, поверил, что только из них и смогли бы сложиться простые и магические слова.
Слова-вспышки?
– В чёрном небе слова начертаны, – читал дрожавшим от волнения замогильным голосом Лев Яковлевич; Соснин отчётливо слышал далёкий голос.
Почему бы и нет? – видимое в единстве с вербальным. Почему бы именно динамично сцепляющиеся в ясные и яркие слова буквы, пробежавшие по небосклону его приключения, не могли дать ключ к расшифровке хаотичных сигналов сознания, да, это была явная подсказка судьбы, медленно, но верно раскрывающей карты! – вот одно слово, точно молния, пронзило тьму, другое, третье. Изощрившись, успевает прочесть и обрывок фразы, кокетливо прячущейся за коньком крыши. Распаляясь, смешивая времена, сминая пространства, гонится за ней, увёртливой фразой, чтобы прочесть её целиком, и незаметно для себя находит выход из дворового лабиринта.
И круг снова замыкается, вернее, замыкается один из кругов, их будет много, очень много, но пока его выносит какая-то сила из дворов на перекрёсток Невского и Садовой. А плоско сверкающие слова и фразы убегают по чёрному небу буквами световой газеты, самое ценное в которой – номера телефонов.
Сжатый толпой, обмякший от понимания, что одурачен собственными домыслами и должен расплачиваться теперь за свою же слабость-доверчивость, соскальзывает по пандусу в чёрную квадратную дыру подземного перехода, сухими изумрудными искрами, как хвост кометы, рассыпается в воздухе разряд трамвайной дуги, и уже трамвай грохочет над головой, а цветистые, но пустые буквы, слова, фразы, ничуть Соснина больше не занимая, бегут себе дальше, дальше, пока не разбиваются в конце строки о глухой торец дома пульсирующими вспышками.
стоп!
Мы бы опять упёрлись в тупик, если бы неосмотрительно порешили, что Соснин, хоть в нервических блужданиях своих, хоть в заминках, изрядно ускоряющих оборачиваемость мыслей, однако ж искомого им смысла не гарантирующих, так и не сумеет сосредоточиться, не возмутится издевательскими вывертами хаоса, не пустится на хитрости, чтобы стать в своём занятии хозяином положения.
Конечно, его душевная роза ветров, послушная противоборству пронизывающих порывов, чуткая к любому лёгкому, еле различимому дуновению, отгибала лепестки то туда, то сюда. Однако солнечная пятнистость сада, лазурно-ватная сумятица небесных боёв вовсе не примирили Соснина с проделками хаоса, нет-нет, он не раскис в благоговейном созерцании природных капризов, не заблудился в плывучих образах прошлого, не захлебнулся потоком сознания. Его руку, едва она, притворившись беспомощной, вроде бы невзначай ловила хоть сколько-нибудь внятный импульс, вело по бумаге упрямое внутреннее усилие. С одержимостью маньяка, которого по чистому недоразумению проглядели в нём кишевшие вокруг психиатры, он ставил и преодолевал барьеры, логические, художественные… но и сбивая их, перескакивая через них, эти барьеры, мысли не обретали чёткого направления, куда там. Не исключено, что именно упрямство и одержимость распугивали мысли, они разбегались по сторонам, прятались, когда же Соснин их находил, собирал и с превеликими усилиями расставлял по нужным ему местам, каждая мысль, каждый выражающий её или попросту с ней связанный эпизод уже спустя страницу-другую мстили ему, как мстят заурядному тирану, и, стремясь самостоятельно дорасти до символа, закольцовывались, эгоистически искали отклик только в себе самих, и цепь таких самозамыканий сковывала текст, а текст рвался из оков, хотя его стягивали новые и новые цепи, а Соснин тем временем искал свои слова и боялся слов, и в этой внутренней борьбе, свидетельницей которой стала конопатая кошка, незаметно отказывала логика, всё труднее было совладать с чувствами и, главное, выдыхался тот самый сокровенный порыв… ох, сколько можно.
Да ещё кадыкастый доброхот стоял над душой, постукивал ногтём по мутному циферблату стареньких карманных часов, подгонял сначала его, теперь – и актрису, идти обедать; да, пора.
Тем более, что надеялся после обеда получить от родителей фруктовую передачу, что-нибудь с Кузнечного рынка.
И вставая со скамейки, благодушно потягиваясь, допускал уже, что чудесно воскресить тот самый потерянный им где-то в блужданиях по лабиринтам памяти сокровенный порыв не под силу будет и самому точному, весомому слову, а заколдованный круг, подчиняясь его сомнениям, тем временем закручивался назад – к краскам, звукам.
не пора ли и нам вернуться (пусть ненадолго) к давненько уже брошенным на полуслове рассуждениям о стиле?
Да, здесь, с изрядной опаской, что и так наскучили не всегда внятные, но всегда почти что убивающие художество пояснения, их всё же, такие пояснения, стоит продолжить, но не потому, что истина дороже художества, а потому всего-навсего, что не приходит на ум иной, не прибегающий к иносказаниям способ хоть отчасти рассеять наверняка скопившиеся уже недоумения относительно личности Соснина и его взглядов.
Если уместно, доверяясь французской наблюдательности, ставить тире между человеком и стилем, то между Сосниным и его стилем не было бы неоправданной смелостью поставить и два тире или точнее – знак равенства, что вышло бы не только вдвойне справедливо, но и вдвойне удобно, позволив писать то об одном – Соснине – то о другом – стиле – не упуская из виду сразу двух объектов-явлений, слитных и взаимно отображённых в цельной и органичной бытийной форме – продвижении, возвращаясь.
А-а-а – поспешит кое-кто разочароваться – известное дело, развитие по спирали.
Однако, не замахиваясь на основы, смущаясь предложить им универсальную и столь же дурманящую замену, Соснин и его стиль, подчинённые двуединой власти центростремительных и центробежных сил, искали свою собственную модель саморазвития.
философичные брюзжания над обеденными тарелками (первое и второе), запитые студенисто-густым клюквенным киселём