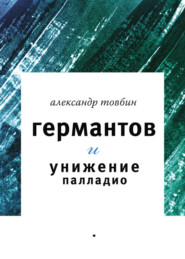По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вдруг слепил встречный луч – взор человека, распростёртого над асфальтом.
Взор прожигал, хотя выпуклые, бело-голубые глаза оставались холодными.
В подробно выписанном событии спрессовались не разные его фазы, но разные к нему отношения: от фигуры к фигуре блуждало множество взглядов, ищущих точку зрения, хотя бы – взгляды Художника, пишущего картину, посматривающего на холст извне – он наклонял голову, прищуривался – или ловящего реакции зрителей из глубины картины: вон там, справа, вдали, его маленькая, с втянутой в плечи головкой, фигурка у дощатого забора; словно назначил встречу кому-то, ждал на ветру.
Но был и подвижный обобщающий взгляд, следивший за всем сразу с высокой, лишь ему доступной позиции, взгляд, пронзавший первопричинную темень, скреплявший видимое и скрытое; странные сгустки света били из тьмы, растекались, как лучи фонариков, по лаковой плёнке, защищавшей изображение.
Частное дворовое происшествие, смешавшее обыденность и загадочность, преображалось этим неверным светом в постоянный, тянущийся из прошлого в будущее конфликт, и когда пробежал по коже морозец, когда кольнули детали-подсказки, детали-предчувствия, пьянящим покоем вечности повеяло от серой сырости стен, разъярённых, злобных, туповатых громил, коричнево-пыльных, будто выдернутые из земли корнеплоды; от распростёртого, но сосредоточенного, со страстным сожалением пронзающего взором даль, бледного человека.
Невещественное струение?
Шанский заговорил о вермееровской сакрализации окна, из которого льётся свет вовсе не солнечный, неведомый.
Не о нём ли, неведомом волнующем свете, когда-то толковал и Бочарников, беспомощно взывая к вниманию? Или всё же – излучение тьмы? Из двора-колодца, откуда-то с асфальтового дна его, неслись детские крики: за луну или за солнце? Жёлтую стену заливало жаркое солнце. За советскую страну? За горбатого японца?
По лицу распростёртого, по ступеням, расчертившим двор, гладкошёрстной собачьей спине скользил лунный свет?
кобальт в крови и неизвестность
– Бледный? Голубая кровь? Бросьте выдумывать! – весело отбивался Художник, – холст-то крупнозернистый, я грунтовал, грунтовал, зашлифовывал наждачной шкуркой, а на палитре кобальт оставался, засох бы, пропал, вот и пустил, не думая, на грунтовку, синева засветилась.
– А почему себя таким малюсеньким и поодаль, там, под козырьком деревянного забора, нарисовал, из скромности? – не отставала Милка: высоченная, она, ссутулясь, трясла за плечи усмехавшегося Художника, окончание картины освободило его на время, он смеялся, шутил; настырная Милка трясла и трясла за плечи, телепалась длинная бордовая бархатная юбка с мокрым краем подола.
– Места на большую фигуру не оставалось.
– Вовсе б не рисовал!
– Композиция бы хуже была.
– Почему сюда, на нас, смотришь?
– Интересно, наверное.
– Наверное?! Нет, скажи, чего ради ты из-под покосившегося забора смотришь?
– Пока не знаю.
– Пока? Когда узнаешь?
– В своё время.
– И скромность у тебя ложная! Признайся, бледнолице-кобальтового страдальца с себя писал?
– Раза два в зеркало глянул.
– Художники собою отравлены, до чего себя любят! – встряхивала рыжими патлами Милка; веснушки старательно припудрены, яркий рот…
– Брось, я только мармелад люблю.
соло с домыслами
– В элитарной субкультуре и впрямь раздут культ художника, этакого небожителя, сосланного на землю, – подоспел Шанский, – но это, Милочка, как убеждает многострадальная отечественная история, не самый опасный культ. Я бы сказал – совсем безопасный, нас, смертных, даже облагораживающий, возвышающий. Разве есть более достойные, чем Бог и его тайный соперник, художник, фигуры для поклонения? А художник ведь из нашей, человечьей породы. Но! Фантастически восприимчивый, художник флиртует с нечистой силой, дышит космическим холодом, жертвует бытовыми радостями, кровоточит иронией и так далее – всё по канве манновской, интеллектуально-непревзойдённой схемы. И можно ли вообразить художника-человека, который не был бы лишним в социуме? Кому встречался теплокровный гибрид демона с рохлей, такой, чтобы правая рука ощетинилась кистями, а левая качала люльку? Одно из двух, – затрясся Шанский в беззвучном смехе, – Художник, осторожно держа обеими руками блюдо, торжественно вносил в комнату пирог с капустой.
– Нет, скажи чего ради раздувают и раздувают культ? – Милка простодушно свернула крашеные губы трубочкой и, звякнув браслетами, обвила худыми руками шею Шанского, – всё знаешь, понимаешь, ну-ка, выкладывай. И – со страшной гримасой. – Ну-у, попался в объятия фурии, говори, а то задушу.
– Извечное человеческое любопытство к устройству мира и смыслу жизни меняет формы удовлетворения в разные исторические периоды, – притворно захрипел, будто раскалываясь под пыткой, Шанский. – Когда-то человека вела по жизненному пути и всё объясняла ему религия, вера в божеский промысел. Потом веру заколебала наука, грозившаяся раскрыть все мировые тайны. Ну а по мере увядания надежд на проникающе-спасительную мощь научного знания, смысл жизни, творя параллельную реальность, пытается добывать искусство. Удивительно ли, что в сознании экзальтированно-благодарных его потребителей художник замещает самого Бога?
– Слишком просто, – Милка разочарованно высвободила шею Шанского, шагнула к столу с роскошным глянцевым пирогом.
убегающий
(с галеры – в галерею)
– Да-да, в новейшей культурной мифологии он – мученик, каторжанин, прикованный к галере творчества, на него сыплются удары, он гоним, да-да, согласно популярному мифу общество теснит, мучит художника, хотя он, обречённый жить под гнётом таланта, сам взваливает на себя духовную ношу, симулируя чей-то гнев, чьи-то удары, – по инерции молол Шанский, – нет-нет, соцреалисты, лижущие властные задницы, не в счёт. И трепливая фронда с фигами в дырявых карманах, которая пьяно плачась, что не выставляют и не печатают, выпрашивает признание, как милостыню на паперти, тоже дерьмо порядочное. Зато свободный художник – баловень, победитель, счастливый беглец из материального плена, хотя в обыденности он частенько выглядит ущемлённым. Каждому, однако, своё, ха-ха-ха, кому – жизненные блага, а кому – посмертная слава.
– Не догадывался, что счастлив, – бормотал Художник, раскладывая по тарелкам, никого не обделяя, ломти пирога.
– Если художник к творческой галере прикован, то, как же и куда убегает? – капризно спросила Милка.
– Убегает аллегорически… куда? В галерею будущего! – нашёлся Шанский, сверкнув глазами.
Его поощрили смех, сухой аплодисмент Головчинера.
– Художник творит вкупе с произведением и свою судьбу: рвёт путы, устремляется бог весть куда и, рискованно приближая кульминацию, сливается-таки с судьбоносным своим назначением в смертной точке. В отважном бегстве навстречу неминуемому концу Шанский усматривал нравственное испытание творчеством, если угодно – трагическую иронию; как несение креста, на котором непременно распнут.
Стало тихо.
Художник заинтересованно посмотрел на Шанского.
– И вот он, вопрос вопросов – если земной путь итожит могила, а душа бессмертна, то ради чего переливается жизнь в художественные формы, которые остаются здесь? Резонно ли их вымучивать-отделывать, репетируя болезненное прощание с этим миром, если там ждёт другая жизнь? О, художник, как философ, бесстрашно упражняется в смерти, – токовал Шанский, Гошка слушал, разинув рот, – художник пленён не только собственным подсознанием, но и своей эпохой; он раб её пустяков, о да, о да, однако он ещё и маниакальный путешественник по времени, повелитель всей его протяжённости, отнюдь не линейной; о да, художник в путешествиях своих уходит за край, ему никак не избавиться от соблазна увидеть себя в посмертном свете, там он заведомо значительнее, ибо творчество больше и долговечнее человека. Вот почему произвольно бросая вспять ли, вперёд события и мысли о них, художник ломает хроноструктуру произведения, компенсируется за реальное всевластие времени воображённым разрушением традиционного, необратимого порядка вещей. Он ищет драмы, конца всего… его счастливая стихия – возбуждающий канун катастрофы, хотя он, разгневанно-благодарный, остаётся пытливым летописцем выпавших дней, лет, какими бы они ни были.
– И нынешних дней и лет? – удивилась Людочка.
– Ну да! – не оставлял сомнений Шанский, – всякое произведение обращено к потомкам, опусы советского искусства – и официозного, и нонконформистского – суть репортажи из тупиковой цивилизации.
Головчинер поглаживал пальцем ямку на подбородке.
– Гордыня? Да, искусство посягает на глубины жизни, тщится ухватить, удержать что-то невидимое в ней, что-то, что после неё… картина пробивает в материи брешь, окно в потусторонний мир, и он, холодный мир, сквозит, смотрит в новоявленное окно на нас; Художник напряжённо прислушивался.
И Соснин, зачарованный, не смел шелохнуться – заразительные Толькины соображения смешивались с дневными внушениями Валерки. Но сегодня Толька был поконкретнее, набросал красивую, хоть по пунктам воплощай, схему. Каково! Художник погружается в свою затейливо выстроенную интровертную композицию, углубляет изображение и углубляется в себя, пока ненароком не проткнёт кистью мистическую преграду; очутившись по ту сторону, оглядывается.
– О да, о да, собиратель подробностей и взломщик хроноструктуры выпадает из бесконечно-вечного пространства-времени за грань непостижимости и – воодушевлённый, возбуждённый – убегает, убегает невесть куда… и оттуда… о да, именно художник смотрит и на изображённое им на холсте, и на нас, зрителей, из того окна! Вот хотя бы, – повинуясь жесту Шанского, все повернулись к картине, – двор, фигуры вылеплены удивлением.
– Ага, ага, – закивала, вскинула руку с браслетами Милка, – исчадия высунулись из ада в жизнь.
смертельный номер
– Манихейство на новый лад, зло с ленцой, заносящее, нехотя, кулаки. А можно ли выстроить вселенную красоты без злобы, вероломства, тупости и отчаяния?