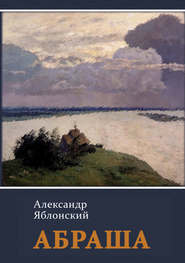По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ленинбургъ г-на Яблонского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К тому времени, как я стал выпивать, ситуация изменилась. Во-первых, изменились цены на главный продукт. Это важно для понимания жизни Ленинграда. Когда мы впервые – класс восьмой-девятый – вошли в винный отдел гастронома у «Водников» (на углу Кирочной и Чернышевского), водка обыкновенная – «сучок», пол-литра с картонной пробкой, залитой красным сургучом, стоила 21 рубль 20 копеек (после реформы 1961 года – 2. 12), «Московская особая» – то же самое, но с белым сургучом – 25. 20 (2. 52), «Столичная» – белая бутылка с высоким горлышком («коньячная») – 30. 70 (3. 07). Потом появился Указ, по которому в вытрезвителях стали брить наголо и сажать на 15 суток. Указ вышел в декабре, поэтому стриженых наголо стали звать декабристами. С гордостью напоминаю, что не только три революции произошли, но и первый вытрезвитель в СССР появился в нашем городе: в 1931 году на улице Марата. Вслед за появлением декабристов поднялись и цены. «Московская» с пробкой из фольги – «козырьком» – стала стоить 2. 87, «Столичная» – 3. 12. «Товарищ, верь, придет она – на водку прежняя цена». Напрасно верили. Цены официально не поднимали долгое время – страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, но стали появляться новые названия (по новой цене): «Русская», «Пшеничная», «Отборная», коленвал, андроповка. Все хуже и хуже. Единственной стоящей водкой внутреннего потребления – мечтой финского туриста – оставалась «Московская» с неизменно зеленой этикеткой. Только ее (и экспортные марки) производили из зернового спирта.
Овощей по-прежнему не было. Фруктов тоже. Я всегда поражался, почему в кондитерской в доме Клейнмихеля тогда были в изобилии соки сливовый и персиковый, клюквенный и грушевый, брусничный (по осени) и абрикосовый; про томатный, березовый, яблочный и виноградный уж и не говорю – всегда. Напротив же, в гастрономе на углу (это в доме № 21 по Литейному, в котором когда-то проживал Самуил Яковлевич Маршак), в овощном отделе ничего из перечисленного ассортимента соков в виде натуральных фруктов не было. Из чего давили сок?! Осенью с машин продавали яблоки с Украины. На рынке было все, но цены кусались. О бананах мечтали. Даже значительно позже – в 70-х, когда рассказывали, что в Финляндии бананы – круглый год, никто не верил. Если у нас нет, то откуда в Финляндии, которая севернее… Когда же добавляли, что бананы с темными точками – пятнышками – самое вкусное – там стоят вообще копейки, так как чуть порченые – хотелось ответить словами Императора Николая Второго: «Закусывать надо!» (Государь изволил молвить эти бессмертные слова, узнав о том, что градоначальник Балаклавы обратился к нему с просьбой предоставить Балаклаве суверенитет). Рыбные деликатесы ещё были, но цены подскочили. Крабы исчезли. Навсегда. Кроме магазина «Березка», где они водились постоянно.
У популярного и талантливого конферансье Олега Милявского была такая реприза: «Захожу в рыбный отдел, гляжу – мама родная, лежит… бельдюга, ну и… ну и хек с ней!..Рядом». Мужчины в публике переглядывались, понимающе ухмыляясь, дамы краснели. Через пару лет про такой рыбный деликатес, как бельдюга (отряда окунеобразных), уже стали забывать, а мороженый хек иногда выбрасывали. Сразу же образовывалась очередь: «За дамой в шляпке не занимать. Только по одному килограмму в руки». Мама выстаивала очередь, и мы пировали.
Ещё была в продаже паюсная икра с пленкой, то есть неочищенная. Она стоила очень дешево, и мама покупала пол-литровую банку такой икры. Пленку аккуратно снимали и наслаждались последним приветом уходящей ночи. Вскоре ночь вернулась, но уже без икры, с пленкой или без оной….
Наши спутники бороздили, но химическая промышленность, слава Богу, находилась в эмбриональном состоянии. Во всяком случае, до легкой и, особенно, пищевой промышленности она ещё не доползла. Так что нейлоновые рубашки оставались мечтой, и приходилось мучиться в хлопчатобумажной продукции. Потом этот шедевр западной (прежде всего, польской) хим. индустрии проскользнул на прилавки советских универмагов, и мы стали радостно потеть в этих нейлонах. «Целуй меня, срывай нейлоны, / В моей груди страстей мильоны». Благодаря непроницаемости химических рубашек, которые, действительно, не мялись и после стирки не нуждались в утюге, да и стирать их было просто – протер мыльной губкой воротничок, сполоснул в прохладной воде – и готово, благодаря всем этим потовыделяющим достоинствам резко возрос ассортимент мужских одеколонов. Я старался достать одеколон с наиболее нейтральным запахом – «В путь!». Но главная прелесть этого забытого натурального времени состояла в том, что все было вкусно. Кто помнит вафельные трубочки с кремом за 7 копеек? – Я помню! Трубочки были длиной сантиметров в десять, края их были заполнены кремом или взбитыми сливками. Вафля похрустывала. Или мороженое. Я не был истовым поклонником этого продукта, как, скажем, всеми нами обожаемый профессор Консерватории Натан Ефимович Перельман. Но сейчас как вспомню… Эскимо круглое на палочке. О-о-о!!! Сливочный пломбир, приготовленный из цельного коровьего молока и сливок с ванилью, орехами, часто шоколадом. Самым вкусным был пломбир «Каштан» за 28 копеек. Дорого, но его расхватывали моментально, особенно если «Каштан» был шоколадный. Изредка, помню, удавалось купить «киевское» – персиковое или абрикосовое. Это была сказка. Вообще мороженое с привкусом настоящего парного молока стоило недорого: шоколадное эскимо – 11 копеек, «молочное» – 9 копеек, сливочное в вафельном стаканчике с розочкой – 28. Тогда с мороженым было все в порядке. Наступило заметное улучшение и с обслуживанием противоположной точки человеческого организма гражданина одной шестой части. 3 ноября 1969 года – через год после оккупации Чехословакии – в порядке компенсации – целлюлозно-бумажный комбинат в Сясьстрое выпустил первые рулоны туалетной бумаги. Выпуск производился на двух огромных, закупленных в Англии машинах. Сограждане долгое время не могли понять, зачем такие траты, когда есть газеты «Правда» и «Смена», и не спешили затовариться этим нежным приспособлением без свинца и идеологии. Но вскоре отбросили сомнения – и задница советского человека замерла в сладостном предвкушении неизбежной перестройки и закономерного крушения родной советской власти. Нет, с мороженым, а значительно позже и с туалетной бумагой все было в порядке.
Вот с Венгрией получилось нескладно, но меня это в то время не потрясло. Я ничего не понял. Имре Надь – кто это? Ведь коммунист, работал в СССР, поговаривали, что активно сотрудничал с НКВД, закладывая своих же компатриотов. Делал он это бескорыстно, то есть отказавшись от материального вознаграждения, за идею, что особенно восхищало рассказчиков. Чем он не угодил своим бывшим коллегам-хозяевам? Чего они – венгры – хотят? Выполнения решений XX съезда в венгерских условиях? Возвращения к попранным устоям, восстановления ленинских норм? Тогда почему танки и кровавое месиво? Только в 60-х с опозданием догнало и оглушило. Я впервые понял, что ночь – это неизбежно и навсегда. Межсезонье конца 50-х – исключение, но оно, все же, согрело и осветило.
Дождь по асфальту рекою струится,
Дождь на Фонтанке и дождь на Неве,
Вижу родные и мокрые лица,
Голубоглазые в большинстве…
Это пела Лидия Клемент. Она была не только певицей. Вернее, – не певицей. Она была воплощением и символом наших юных надежд, того времени, неповторимого и утреннего. Поэтому и ушла вместе с этим временем – молодая, обаятельная, талантливая, светлая. Она умерла в 1964 году. Ей было 26 лет. В этом же году закончилось наше утро. Отблески его ещё тускло светились четыре года – до августа 68-го, но это было уже не утро. Скорее, закат.
В XXI веке, на юбилее – 85-летии Наума Коржавина, я встретил в Бостоне Бориса Шафранова – мужа Лидии Клемент, прекрасного джазового музыканта. Вспомнилась фотография, сделанная на их свадьбе: она – сияющая, ямочки на щеках, голову чуть втянула в плечи, голубые глаза; он сидит прямо, натянуто, смущенно улыбающийся. На столе лимонад, нераскрытая бутылка шампанского, вино, салат, пирожки, яблоки. Скромная свадьба на рубеже 50-х–60-х. Жизнь начиналась. Удивительная, почти сказочная жизнь девушки – выпускницы ЛИСИ – Ленин градского инженерно-строительного института, моментально влюбившей в себя наше поколение не только слушателей, но и композиторов, поэтов, критиков. Представить Лидию Ричардовну Клемент на этом юбилее Коржавина рядом с Борисом – 75-летней – невозможно. Как невозможно представить стариком Пушкина или Моцарта, Рафаэля или Лермонтова. Господь рано забирает к себе своих любимцев. Лидия Клемент была моцартианским человеком. Ее нельзя было не любить, и она была той уникальной личностью и артистом, кого абсолютно не за что было не любить. Она была ленинградкой, из исчезнувшей породы людей
…добрых больших озорных и мечтательных.
Мне повезло – я живу среди вас…
Сердце не отпускало. Как сдавило ледяной рукой. Лучше бы уж пели про Петербург – Ленинград.
Потихоньку поплыли пригороды Твери. Как поразительно все в жизни сплетено. «Скрещенье рук, скрещенье ног, / Судьбы скрещенье…» Теперь Сахарово – это окраина Твери. Ранее же – чудная ухоженная усадьба… В центре Сахарова – парк. В парке – могила. Ну что мне поселок Сахарово – ныне пригород Твери, этот парк, эта могила? Что общего, неразрывного? Почему напрягся, вглядываясь в окно медленно плывущего поезда? Вдруг увижу… «Свеча горела на столе. Свеча горела…»
…В 1861 году 33-летний флигель-адъютант Иосиф Гурко сделал предложение графине Марии Андреевне Салиас-де-Турнемир. Невеста была хороша во всех отношениях: красива, умна, аристократична, образованна и элегантна, однако принадлежала к известной фамилии. Флигель-адъютант Его Императорского величества слыл – справедливо! – человеком решительным, прямым, честным. Да и долг – превыше всего. Поэтому, презрев опасность, он при полном параде явился к Государю за разрешением жениться.
Здесь надо отметить, что Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский Александр Николаевич не только ценил, но и искренне любил своего флигель-адъютанта. Было за что. Гурко, будучи ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка, привлек внимание молодого Императора своей блестящей джигитовкой. Молодой Государь приказал навести справки. Оказалось, что виртуоз-джигитовщик в 18 лет закончил Пажеский корпус и был выпущен корнетом в Гусарскую лейб-гвардию. Однако в 1853 году, желая во что бы то ни стало участвовать в Крымской кампании, сменил гвардейские погоны ротмистра на погоны пехотного майора и был переведен в Черниговский пехотный полк, что давало возможность участвовать в военных действиях. Это обстоятельство и ставшие известными слова Гурко: «Жить с кавалерией, умирать с пехотой» – особенно расположили Александра. Пролить кровь за Отчизну в тот раз майору Гурко не удалось – Севастополь был сдан. Вернувшись в Гусарский полк в прежнем звании ротмистра, полюбившийся Государю новый флигель-адъютант стал не только ближайшим доверенным исполнителем проводимых Александром Вторым реформ, но и поверенным в личных делах царя. Особую привязанность Государя вызвало секретное донесение о том, что на предложение высших чинов III (жандармского) Отделения о негласном сотрудничестве Гурко ответил официальным прошением о выходе в отставку. Александр Герцен по этому поводу писал: «Аксельбанты флигель-адъютанта Гурко – символ доблести и чести». Александр Второй Романов придерживался такой же точки зрения. Крайности сходятся.
…Крайности, действительно, сходятся. Вспомнил слова цесаревича, будущего Императора Александра Первого: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а Империя стремится лишь к расширению своих пределов». И тут же всплыло: Михаил Лунин покидает Париж. Это 1817 год. Лунин покорил интеллектуальную элиту Парижа своим блистательным и независимым умом, непреклонным характером, изысканным воспитанием. На прощальном вечере у баронессы Роже? к Лунину подходит его горячий почитатель Анри Сен-Симон – тот самый: социалист, хоть и утопический – со словами: «Опять умный человек ускользает от меня». И добавляет: «Если вы меня забудете, то не забывайте пословицы: “Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Со времен Петра Великого вы все более и более расширяете свои пределы. Не потеряйтесь в безграничном пространстве. Рим сгубили его пределы /…/ ВОЙНА ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБСТВО; мирный труд положит основание свободе, которая есть неотъемлемое право каждого». И русский цесаревич и, казалось, его антагонист – французский философ-социалист – об одном и том же. А тут ещё и князь Вяземский со своей гневной оппозицией «Клеветникам России», в частности «географической фанфаронады» Пушкина: «Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст…» (это по поводу того, что, если надо будет, встанем все «от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды»). Величие государства и значение правителя определяются в России количеством завоеванных квадратных миль, километров, превращая завоеванное в территорию рабства и нищеты. «Порядок изгнан отовсюду». (Как в скобках не вспомнить Георгия Федотова, его статью «Рождение свободы»: «Остается не разрешенной /…/ загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? /…/ Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют миросозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую или единственно истинную религию, /…/ которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая /…/ господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами».) И – бесспорно – рабское состояние духа рекрутируется, приумножается и закрепляется только войной – победоносной и, конечно, со слабым противником. Такая война – лучшее лекарство при явной угрозе крушения режима. Это (…) хорошо усвоил.
Крайности сходятся. Совсем неожиданно: «В финансах – упадок кредитов, торговли и фабрик, истребление государственных лесов. В юстиции – взятки, безнравственность. В министерстве внутренних дел – совершеннейший упадок полиции и безнаказанность губернаторов. В военном министерстве – расхищения». Это – не Герцен, не цесаревич, не Салтыков-Щедрин, не утопический социалист. Не Пушкин. Это – их антагонист. Фаддей Булгарин. Голос плебса «справа». (Пикантность ситуации в том, что данный – совершенно точный анализ – напечатан не в «Колоколе», не в частном письме – в официальной записке Правительству. И – сошло! Ибо был «голос справа». За подобные суждения, скажем, в письмах тому же Правительству, то есть Государю, Бенкендорфу ссыльного Лунина упрятали ещё дальше – в Акатуй, откуда не выходили. Не вышел и Лунин, его убили… Критика «справа» возможна и похвальна – Николай смеется и аплодирует «Ревизору», говоря «и мне перепало», но министр финансов Канкрин осмеливается оспорить: не стоило смотреть эту глупую фарсу. Представить подобную ситуацию в зеркальном варианте в России невозможно: Хозяин возмущен, а министру понравилось. «Наши чувства правильные», – заявил в фельетоне Власа Дорошевича купец-черносотенец губернатору, коря того за разрешение ставить оперу «Демон»: «Там и нечистая сила, и актрисы с такими зрелыми формами…». Суждения «директоров и министров, позволивших эту оперу к показу», для черносотенца – ничто. «Ещё неизвестно, какой эти министры веры!» – «Ты о министрах полегче!» – «Министры от НАС стерпеть могут. Ежели какие гадюки или левые, – тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные».)…Ничего в России не меняется, хотя до «Демона» ещё не добрались. Руки не дошли. Отличие лишь в том, что ранее губернаторы или министры увещевали черносотенцев, ныне же берут под козырёк. Однако при всем при этом Булгарин, как и цесаревич, прав – «в наших делах господствует неимоверный беспорядок».
Крайности сходятся.
…«Пора, давно пора! – искренне обрадовался Государь, узнав о помолвке своего флигель-адъютанта. – А кто твоя избранница?» – возник естественный вопрос. Гурко ответил. Лицо Александра заиндевело. «Надеюсь, дочь не разделяет взгляды своей матушки?» Иосиф Владимирович ответил в том духе, что свои взгляды мать его невесты в его присутствии не высказывает – «это было бы неуместно», а особых политических и прочих взглядов Мария Андреевна по молодости вряд ли имеет… То есть от ответа ушел. Государь тоже ушел – стремительно, ничего не ответив, и, вопреки обыкновению, не подав руки и не кивнув. Гурко попал в опалу. Продвижения по службе и личные контакты с Государем надолго прекратились. Я при этом разговоре не присутствовал, но Министр Двора и Уделов генерал-адъютант граф Владимир Федорович Адлерберг 1-й пересказал мне его, да и в салоне Евгения Васильевича и Александры Викторовны Богдановичей об этой конфузии толковали изрядно.
Если вы бывали в 60-х годах нашего славного девятнадцатого столетия в ресторане Палкина, что на углу Невской и Литейной першпектив – не путать со старым трактиром Палкина на углу Невского и Большой Морской, открытым аж в 1785 году и славившемся постным столом и соловьиным пением, – то в этом «Новом Палкине» в буфетной комнате с нижним ярусом оконных стекол, на которых были изображены сцены из «Собора Парижской Богоматери» Гюго, вы наверняка могли заметить симпатичного молодого человека, лет сорока, не более, с густой шевелюрой смоляных волос, чья ядовитая беседа, остроумные реплики и точные эпитеты составляли, по словам ресторанного завсегдатая знаменитого А. Ф. Кони, «один из привлекательных соблазнов этого заведения». Конечно, и кухня «у Палкина» была отменного качества – и недорого! Скажем, будничное menu variе из русской и французской кухни: суп – «la potasse naturelle»; пироги – «демидовская каша»; холодное – «разбив с циндероном»; далее – раки, роти с телятиной, пирожное – крем-брюле – всё это всего за 1 рубль 65 копеек + графинчик водки – 50 копеек, две кружки пива – 20 копеек + чаевые. (Правда, в «Малом Ярославце», что в конце Большой Морской, обед из четырех блюд стоил 75 копеек с пивом.) Впрочем, что говорить о ресторанах – только аппетит нагнетать и расстраиваться… Так вот, помимо прекрасной кухни, бильярдной и бассейна со стерлядью, приманкой «Палкина» в те времена был упомянутый Николай Федорович Щербина – некогда хорошо известный поэт, мастер изысканных антологических стихотворений из древнегреческой жизни и острослов. Всегда чуть подшофе, Николай Федорович с невозмутимым видом как бы ? propos импровизировал свои изящные, на грани приличия эпиграммы, сатиры или просто bon mot. Особым успехом пользовался его Сонник, а точнее – «Сонник современной русской литературы, расположенный в алфавитном порядке и служащий необходимым дополнением к известному “Соннику Мартына Задеки”». Даже после смерти 48-лет него поэта бо?льшая часть Сонника не была издана в силу «неприличия тона», однако завсегдатаи «Палкина» многое знали наизусть. Зол, беспощаден и меток был г-н Щербина. Так, к примеру, читаем: «Соллогуба графа во сне видеть предвещает взять и не отдать; иногда же предвещает с изумлением увидеть на мраморном пьедестале роскошную севрскую вазу, наполненную болотной тиной и смрадным навозом и прикрытую сверху букетами камелий». Или на литеру «Н»: «Некрасова во сне видеть предвещает из житейской необходимости войти в связи с пустым и пошлым человеком (в роде Ивана Панаева)». А вот и то, что мы искали – литера «С»: «Сальяс графиню видеть во сне предвещает выцарапать глаза человеку, принадлежащему к другому литературному муравейнику».
Графиня, теща будущего генерала-фельдмаршала, освободителя Болгарии, Елисавета Васильевна Салиас-де-Турнемир (урожденная Сухово-Кобылина), действительно отличалась острым и недобрым языком, неистовым темпераментом, беспощадностью суждений, непримиримостью своих независимых позиций по многим вопросам. Ядовито и возмущенно обрушилась, скажем, на роман «Отцы и дети», хотя именно автор этого романа был ее близким другом и когда-то открыл ей дорогу в большую литературу, предсказав блестящее будущее. Не пощадила и своего сына – Евгения Салиаса, известного писателя – «русского Дюма», автора нашумевшего тогда романа «Пугачевцы». Все это было бы ничего и вряд ли занимало бы внимание Его Императорского Величества, ежели бы не два обстоятельства.
Во-первых, Елисавета Васильевна сама была писателем. И хорошим писателем, что неудивительно, учитывая ее блестящее образование и несомненное литературное дарование – семейное свойство. Ее родной брат – автор «Свадьбы Кречинского», «Дела» и пр. Содержание ее лучших, несколько растянутых повестей сегодня кажется наивным: безликие безвольные герои – слабые «отпечатки» Печорина, коих автор презирает, и добродетельные, невинно страдающие героини. И Любовь – главный персонаж творений графини. Вот это было написано с жаром и увлеченностью. Однако все произведения Евгении Тур (под этим псевдонимом издавалась Елисавета Васильевна Салиас), особенно поздние – детские («Последние дни Помпеи» или «Катакомбы», читаемые и в XX веке с удовольствием), написаны хорошим, ясным, живым и изящным русским языком. Впрочем, не это так насторожило Государя. Графиня была популярным и любимым писателем – это уже опаснее! Настолько, что, к примеру, «Современник», печатавший ее сочинения, в 1850 году объявил, что публикация нового романа г-на Некрасова «Мертвое озеро» откладывается, «дабы дать место ожидаемому с нетерпением новому роману «Племянница» г-жи Тур – автору так понравившегося романа “Ошибка”». А ее чрезмерная популярность, наложенная на непримиримый характер и бескомпромиссность суждений, усугублялась политическими взглядами. Она была либералом самого левого радикального толка. Это – во-вторых. Свои взгляды, включавшие в себя, в том числе, «ораторствование о свободе, равенстве, необходимости борьбы с правительством» (свидетельство Е. М. Феоктистова – друга и соиздателя графини) мадам Салиас с неукротимой энергией высказывала в своих салонах в Париже и, главное, в Москве, а там бывали Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, И. С. Тургенев, А. Н. Афанасьев и многие другие «западники» и либералы – и на страницах «Русского вестника» (который ей пришлось покинуть – характер!), «Русской речи» – ее собственного журнала, соединившегося позже с «Московским вестником» Е. Феоктистова, и на студенческих сходках, что совсем уж моветон. Да ещё и переписка с Герценом! Это уж было слишком. Посему за графиней Салиас-де-Турнемир с соизволения Императора был установлен негласный контроль. А тут флигель-адъютант и доверенный друг надумал жениться на дочери этой особы…
Несмотря на реакцию Государя, флигель-адъютант Гурко женился на своей избраннице, и прожили они долгую и счастливую жизнь. Бывали трения: Гурко ненавидел высший свет, был спартанцем во всех смыслах этого слова, жил, повинуясь только своим жизненным принципам и своему пониманию пользы Отечества, супруга же… она была женщиной, а посему находила радость жизни в субстанциях противоположных… Кто с этим не сталкивался?! Но прожили они долго и счастливо и умерли… Нет, не в один день, – с разницей в пять лет, но похоронены были вместе. В имении фельдмаршала в Сахарове под Тверью, в родовом склепе среди берез, лиственниц, реликтовых пихт парка, созданного руками прославленного полководца.
Вместе их и откопали. «Смердящие генеральские останки душителя рабочих и крестьян убраны. На этом месте теперь цветут цветы пролетарской культуры и знаний», – писала «Тверская правда» 28 мая 1925 года – и писала правду. Здание родовой усыпальницы было превращено в библиотеку воинской части, расположившейся в усадьбе. Библиотека просуществовала недолго – прикрыли за ненадобностью, парк бессистемными вырубками погубили, главное здание усадьбы разрушилось. Останки великого полководца XIX века и его жены захоронили вблизи, в мелиоративной канаве.
Понять логику российской ментальности нет никакой возможности. Что с Рождеством – Новым годом, что с флагами – гимнами, что с праздниками: годовщину октябрьской революции отмечали в ноябре, что с неонацистами в гостеприимном Ленинграде— Петербурге, что с полководцами – душителями. Гурко – душитель. А, скажем, Суворов – он не душитель, только великий полководец. Однако будущий генералиссимус, а не освободитель Болгарии, неистово гонялся за Пугачевым – не догнал, опередили, зато в целости и сохранности доставил «народного защитника» в Москву в клетке, да ещё привязанного для надежности к телеге. Всегда поражался двум равнозначным героям русской истории, украшавшим все ее учебники: «предтеча большевиков» Пугачев и «верный сын отечества, отец солдатам и патриот» Суворов. Забавный иконостас. И фельдмаршала Суворов получил не за победу над «супостатом – бусурманом – турецким пашой», а за взятие предместья Варшавы – Праги – и подавление польского восстания, предводителем которого был Костюшко – «национальный герой Польши, Литвы, Белоруссии…» (в Петербурге сосуществуют Суворовский проспект и улица Костюшко!). Вот уж сколько славянской крови было войсками Суворова пролито – немерено, поляки до сих пор помнят и ненавидят братьев по крови. Можно ли в Польше представить улицу имени Суворова или Паскевича!? Однако останки Суворова никто не тревожил – и слава Богу! Душитель же рабочих и крестьян, назначенный временным генерал-губернатором Санкт-Петербурга после выстрелов Леона Мирского в шефа жандармов Александра Дрентельна и Александра Соловьева в Александра Второго – нужен был такой бесстрашный, энергичный и честный человек, как Гурко, герой закончившейся войны, – этот самый Гурко отменил вынесенный военно-окружным судом смертный приговор Мирскому, заменив его пожизненной каторгой. Государь выразил крайнее неудовольствие («не ожидали от тебя неуместного милосердия»). Однако Гурко своего мнения не изменил. Милосердием он не отличался, наоборот, слыл жестким и часто – жестоким человеком (Наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич, воспротивился назначению Гурко на пост Главнокомандующего в вверенном ему крае – «слишком жесток»). Как писал Е. М. Феоктистов – тот самый, помните: соиздатель и друг либеральнейшей графини Салиас, тот самый Феоктистов, который проделал удивительный путь от издателя «Отечественных записок» до главного цензора России, своим указом запретившего и закрывшего свой журнал, – этот самый Феоктистов вспоминал: «По мнению его /Гурко/ недоброжелателей, он обнаружил будто бы милосердие из жажды популярности… Я видел Гурко поздно вечером того дня, когда состоялось решение, и знаю в точности, какие мотивы руководили им. Он не мог не обратить внимания на то, что Мирский едва достиг совершеннолетия и был не столько закоренелым злодеем, сколько сбитым с толку революционною пропагандой мальчишкой. Плюс какая-то любовная история…» Генерал-губернатор действовал, сообразуясь исключительно со своими воззрениями.
Сообразуясь со своими воззрениями, он выстраивал свое поведение командующего и воина. Во время беспрецедентного зимнего перехода через Балканы, соизмеримого лишь с легендарным переходом Суворова через Альпы (с той лишь разницей, что нечеловеческие и героические усилия армии Суворова не имели практического результата – не по вине солдат или полководца; переход же войск Гурко окончился взятием Софии и, фактически, победным завершением кампании, освобождением Болгарии). Во время этого перехода, как известно, «всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми воинами все трудности перехода, лично руководя подъемом и спуском артиллерии по обледенелым горным кручам, ночевал у костров, довольствовался, как и солдаты, сухарями». И делалось это естественно и легко, как и подобает воину по призванию. Далеко не все подчинённые ему командиры его любили (великий князь Александр Александрович – впоследствии Александр Третий – откровенно терпеть его не мог, не простив того, что командование гвардией во время балканской кампании было возложено на Гурко, а не на него – Александра: во время тостов, провозглашаемых впоследствии Императором за генерала, наследник демонстративно отставлял свой бокал), любили не все, но все уважали и боялись. Не боялись солдаты: они командующего боготворили и подчинялись беспрекословно. Когда во время перехода через самый неприступный перевал доложили, что пушки на руках не поднять, «железный генерал» своим привычным металлическим голосом негромко властно сказал: «Втащить зубами». Втащили.
В конце XX века протоиерей Геннадий Ульянич озаботился поисками останков генерала – героя последней Турецкой компании и его супруги. Характерно для нынешней России – озаботилось духовное лицо, а не государственные мужи или командующие армией, которая опять называлась российской. Более четырех лет продолжались поиски. Если бы не цепь случайностей, не нашли бы. Короче, под толстым старым деревом в парке, под свалкой мусора откопали недостроенный кирпичный склеп. На самом дне, в обломках бетонной трубы, обнаружили лакированные сапожки, в которых была похоронена Мария Андреевна, а под следующим слоем земли – все то, что осталось от праха генерал-фельдмаршала, бывшего генерал-губернатора Петербурга, кавалера орденов св. апостола Андрея Первозванного, святого Александра Невского с алмазами, св. Владимира I и III степеней, св. Анны I степени, Георгиевского кавалера (II и III степеней и золотого оружия), св. Станислава I и II степеней, «Белого Орла» и пр., пр., пр.
…Всё это – Гурко и семейство Салиас, Феоктистов и Щербина, ресторан Палкина и ресторан «Медведь», полки лейб-гвардии и Государь Император, так же, как и Мирский, Соловьев, Нечаев, как вилла «Роде», коньяк потомков вольноотпущенного крестьянина генерала Измайлова – Леонтия Шустова – или магазины потомков вольноотпущенного садовника графа Шереметьева – Петра Елисеева, конки на Невском и гулянья в Летнем саду, и женщины: очаровательные, манящие и недоступные женщины Петербурга – все это мой Город, исчезнувший, как сказочный Китеж.
Ужель в скитаниях по миру
Вас не пронзит ни разу, вдруг,
Молниеносною рапирой
Стальное слово «Петербург»?
……………………
Ужели вы не проезжали
В немного странной вышине
На старомодном «империале»
По Петербургской стороне?
Ужель, из рюмок томно-узких
Цедя зеленый пипермент,
К ногам красавиц петербургских
Вы не бросали комплимент?
……………………
Давно осталась позади Тверь, за окном мелькают темные силуэты деревьев, телеграфных столбов, строений, сливающиеся в одну рваную темно-серую ткань. Вижу: генерал от кавалерии Иосиф Владимирович Гурко – стройный, худощавый, подтянутый, в плотно облегающем мундире с одним Георгием Второй степени на груди по центру, прямо под воротником, с большими седеющими бакенбардами, – прохаживаясь вдоль дощатого походного стола, читает список офицеров лейб-гвардии Павловского полка, особо отличившихся в деле под Горним Дубняком и Телишем, открывшем дорогу на Плевну и обеспечившего успех всей компании; офицеров, представленных к наградам и очередным званиям: «…“Святой Анны” четвертой степени с надписью “За храбрость” – Яблонскому… Голубчик, – это он к адъютанту, – этот Павел Яблонский – он, кажется, прадед тому самому Яблонскому, музыканту – шалопаю, возомнившему себя писателем?..»
…Судьбы скрещенье.
Грудному ребенку место в яслях, а не в тундре!
Иосиф Франциевич удачно прикупил домик. Примерно напротив его ранее трехэтажного, а ныне пятиэтажного каменного дома с изящными сандриками над окнами, белой лепниной на фасаде, окрашенного ранее в желтый «россиевский», а ныне в грязный серый цвет, располагалась рюмочная. Одна из лучших в Ленинграде.
Рюмочные были неотъемлемой частью интеллектуальной жизни Ленинграда. Они существовали до конца 70-х, потом – как корова языком. Кому они мешали?! Впрочем, понятно, кому: интеллектуальные центры не поощрялись даже в рюмочных.
То время 50-х–60-х–70-х годов отличалось причудливостью наслоений дня и ночи, их несовместимостью и взаимоисключаемостью, но, вместе с тем, взаимопритягаемостью и взаимообусловленностью. Если уж запустили первый спутник Земли, то Пастернака необходимо было смешать с землей и назвать свиньей за талантливый, но политически безобидный роман с гениальными стихами. Коли решили напечатать «Щ-854» («Один день Ивана Денисовича»), то немедленно надо раздавить художников – бессмертное «педерасы проклятые… мой внук и то лучше рисует, запретить! Всё запретить! Я приказываю! Я говорю, выкорчевать!». Ежели реабилитировать миллионы невинных и отпустить на волю оставшихся в живых, то уж обязательно залить кровью Венгрию… да и Польшу, до кучи. Коль скоро стали прорываться в нормальный мир – слепили Международный кинофестиваль, на одном из которых, благодаря неистовым стараниям Е. Фурцевой и Г. Чухрая, не пожелавших опозориться на весь мир, первый приз получил фильм Феллини (1963 год), и конкурс Чайковского, первым лауреатом которого стал американец Вэн Клайберн, то совершенно обязательно посадить писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Это был первый срок, данный в СССР писателям как таковым. (Гумилева и Мандельштама, Ивана Катаева и Бабеля, Ясенского и Пильняка, Артема Веселого и Зарубина, Клюева и Заболоцкого, Корнилова и Васильева, Шаламова и Бродского, Белинкова, Коржавина и многих других ставили к стенке, гноили в лагерях, стирали в пыль, мариновали в ссылках как белогвардейских заговорщиков и наймитов, как японских, латышских, английских, немецких шпионов, как троцкистов, правых уклонистов, тунеядцев, «неблагонадежных» и пр.) Если уж достроили никому не нужный БАМ, то почему не выставить из страны Солженицына. «Венера 13» опустилась на одноименную планету – прекрасно, но как не сбить по этому поводу южнокорейский пассажирский самолет. Тогда это был только первый опыт в подобных забавах российских правителей. Так же было и с закрытием рюмочных: компенсировали либо запуск «Союз-Аполлона», либо восхождение на большевистский Олимп верного сына партии товарища Андропова или ее стойкого члена Черненко.
В рюмочной напротив бывшего семейного гнезда я был завсегдатаем. Рюмки – граненые, вмещавшие 50 грамм. То, что не дольют, не вызывало сомнений ни у покупателей, ни у продавцов, ни у ОБХСС. «Дайте две порции по 150 грамм. Можно в один стакан» – это шутка (стаканы были двухсотграммовые). Однако все с недоливом мирились. За удовольствие надо платить. А удовольствие было огромное. К пятидесятиграммовой рюмке полагался бутерброд из ржаного хлеба с одной килькой и тонким диском вкрутую сваренного яйца. Иногда – со шпротами (две штуки), реже с вареной колбасой. Рюмочная – штука удобная и комфортная и для жизни необходимая. Нечто похожее на американские стиральные машины и сенокосилки вместе взятые. Только более полезная в нашем быту. В рюмочной можно было быстро остограммиться – хлопнуть две рюмки сразу и закусить одним бутербродом, оставив нетронутым второй, что многие и делали, и идти дальше, к следующим питейным заведениям или в магазин, на службу или на свидание. Никаких прилипчивых незнакомцев, как в пивной, которым необходимо срочно излить душу, обнять за шею, дохнув ароматом всей своей прошедшей жизни, и облить чужие штаны остатками пива. Бутерброды в рюмочной к концу дня иногда горкой лежали на неубранном столе. Но было и наоборот – один раз за всю историю и не со мной. Через лет этак шестьдесят после обманчивого рассвета на Москва-реке, уже в XXI веке, далеко от Рылеева, Ленинграда, России, то есть тогда, когда уже ничего не изменить и не вернуть – ни Ленинград, ни Россию, ни рюмочные, – одна знакомая рассказала эту жуткую для меня историю. Я тогда – в далекой юности – эту женщину не знал и даже не догадывался о ее существовании. С ней же случилась беременность. Дело молодое. Бывает. И у нее, как у любой беременной женщины, проявилась неуемная тяга к килькам. Не к сельди, которая ещё была в продаже, не к икре, которую было не достать, но по блату все же можно, не к соленым огурцам из бочек – на рынке, да и в магазинах, их было навалом: большие, пузатые, хлюпающие во рту, брызгающие рассолом на всех окружающих, но невероятно вкусные. Только кильки могли удовлетворить ее беременную душу и одноименный организм. Но кильки как раз и исчезли. Причем исчезли в магазинах. В рюмочных были, а в магазинах – нет. Это как с соками из фруктов, которых – фруктов – в помине не было. Короче, голь на выдумки хитра. Моя новая знакомая в те незнакомые времена нашла выход. Она забегала в рюмочную, брала «две по пятьдесят», съедала два бутерброда с килькой, а водку – 100 грамм! – отдавала алкашам вроде меня. И летела счастливая на работу. Я об этом не знал. Самое обидное то, что та рюмочная находилась на улице Моховой, между бывшим Брянцевским – ТЮЗом – и Белинского. Почти напротив Театрального института – детища Л. Вивьена и Музыкального училища им. Мусоргского. Что было первично, а что вторично: рюмочную открыли поближе к этим очагам культуры и воспитания творческой молодежи, или эти два очага разместили в надежде, что поблизости будет рюмочная, дабы студенты и студентки, доценты с кандидатами и прочие народные артисты не утомляли ноги частыми перебежками, – что было первично, что вторично, не знаю. Знаю лишь, что меня в тот момент в этой рюмочной не было, и дары природы, то есть беременной Ларисы, я не получал. По сей день горюю, что проходил мимо рюмочной на Моховой в те знаменательные дни.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: