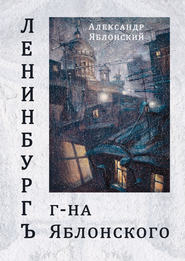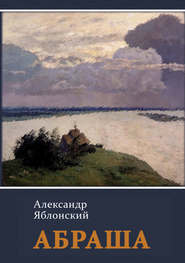По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доцент Охлопков был очень хороший доцент. Возможно, даже лучший доцент из всех доцентов. Иногда создавалось впечатление, что и в детстве он был доцентом. Вот, например, ему девять лет отроду, а он уже доцент, и все знают, что он уже доцент. И он знает, что все знают, что он уже доцент. Может, потому, что на лбу у него написано, что уже доцент. Но на лбу у него ничего раньше не было написано. Да и сейчас! Вообще – НИЧЕГО! Такой голый зябкий лобик. А над ним волоса начинаются. Реденькие, правду сказать: как их ни завивай, они всё равно торчком торчат. Но и с такими волосами видно, что он доцент. Вот в бане – не всегда. И не потому, что там доцент голый, – там все, как назло, голые ходят. Срам один. Просто очень парно и не видно: люди всматриваются, не доцент ли там Охлопков мочалку намыливает, но не отчетливо. Может, и он… Кто разберет? Вот и случилась с ним такая канитель. Просто влип! Шел он, значит, с поминок. Поминки были слабые. Мог бы и не ходить. Но усопший был противный тип. Оч-ч-чень противный. Профессор. Тихоня, ручки беленькие потирает – вернее, потирал, уже больше не потрет; так вот, потирал и что-то умное говорил, хрен разберешь, и по-немецки, и по-английски, и по-латински лопотал; беспартийный был, но квартиру имел в две комнаты с ванной и жену молодую. Оттого, наверное, и дал дуба, коньки сбросил, ласты отцепил. Из интеллигентных. А поминки оказались неразборчивые. Как положено, сначала кутья, это доцент знал, никуда не денешься. Покушал – раньше никогда не пробовал. Вкус не расчухал. Потом молчание, глаза в скатерть, иль в кашу аль кисель, затем не чокаясь – это уже лучше, опять помолчали, разговор тихий, как у порядочных, опять не чокаясь. Кто-то всхлипнул. И так минут десять, если не больше. Не привыкать. Ну, а теперь, по обычаю, кто-то должен бы сказать: «Товарищи, а покойник-то, Ляксандр Палыч, был веселый (или жизнерадостный, или оптимистичный, или светлый) человек. И шутку любил, и песнь хорошую». А тут какая-нибудь дама из просвещенных или разведенная: «Вот смотрит он на нас сверху и радуется, что мы вот так, по-семейному его вспоминаем», – и случайную слезу кружевным платочком оботрет да сама себе полную рюмку нальет. Выпивки, слава богу, не пожалели. «Вспоминаем и помнить будем всегда», – с достоинством и авторитетом пробасит проректор по хозчасти Института, а вдова вдруг зло на него зыркнет. И правильно зыркнет: этот не забудет, пожалуй, пьянь болотная, дятел. Стучит и стучит. Жена его с ректором спит, иногда даже в кабинете, чуть диван не обрушили, доцент Охлопков доподлинно знает, секретарша нашептала. Опять не чокаясь, а тут и время расслабиться. Ан нет. Скорбь хороша в меру. А у этих – у профессоров – все не как у людей. Не любил их доцент Охлопков. Так и просидели в ихних воспоминаниях тихими голосами и шмыганьем носами. Разведенная попыталась запеть: «С чего начинается Родина», – эту песню было принято петь на поминках, свадьбах или крестинах с 2000-го года: патриотично и верноподданно. Но ее не поддержали, сделали вид, что слова забыли. Голос же у разведенной противненький, и слух не ночевал. Да и потом пахнет. Сутулый аспирант, из евреев, что-то стал говорить о гибели науки, одичании, воровстве, мракобесии, лизоблюдстве, кумовстве, плагиате; доцент Охлопков даже слушать не стал, только записал фамилию на пачке «Беломора», чтобы не запутаться в этих буквах «х», «ц», «р». Короче, выпил доцент Охлопков свои 350 грамм, пожевал кашу для приличия, винегретом подкрепился, навернул три бутерброда с докторской колбасой и один со швейцарским сыром. Ломти колбасы и сыра были толстые. Всё ждал, когда кто-то начнет анекдоты рассказывать, самому начинать было боязно – вдруг не засмеются… Анекдотец у доцента был припасен для этого случая грамотный, филологический – для умных. Сейчас расскажу: Один профессор или академик – ещё при старом режиме – пришел в гости к другому академику, а у него, у пришедшего академика, фингал на морде лица нарисовался с кулак. Сине-бирюзово-фиолетовый. Лиловым переливается. Сначала все молчали, вид делали. А потом одна барыня набралась маленько «Клико» и спрашивает, мол, откуда такое сокровище на роже. Ну, академик, понятно дело, и отвечает: «Давеча на обед к генералу Г. приглашение имел. А рядом со мной один гусарский офицер сидел. Он и рассказывает, что был у него в роте один х***. А я его прерываю и говорю: помилуйте, это же не грамотно. Надо говорить не в роте, а во рту»! Ну и вот». Такой анекдотец. Не дали рассказать. Посидел в печали доцент Охлопков для приличия и чая дожидаясь. Без сладкого он обычно из гостей не уходил. Однако увидев лишь кисель, засобирался. Якобы в туалет. По надобности. Надобности особой не было, но почему не сходить за те же деньги. А потом тихонько и шмыг. Только вдову сочувственно, но, надо честно признаться, без особого удовольствия поцеловал – она на кухне отсиживалась.
Так вот, идет он спокойно после поминок, хотя поминки какие-то невразумительные были: ни попеть, ни пообщаться нормально – идет себе, идет и вдруг видит.
* * *
Странно… Боль стала мягко истаивать, отступать без сопротивления и огласки. Зато навалилась сонливость. Тягучая и беспощадная. Это плохо. Можно не успеть. Главное не поддаваться ей, пока Лиза не придет. Лиза-Лиза-Лизавета, я люблю тебя за это. Почему стало так тихо? Надо позвать Сергачева. Он, наверное, тоже уснул. Тогда боль стала отпускать, как и нынче; нет, не боль, а страх. Даже не страх, а растерянность и паника, а это хуже боли. Нет, и страх тоже. Тяжелый, обезноживающий. И на опустевшее место вкрадчиво вползла эта противная обезоруживающая сонливость. Может, она и спасла тогда. Сегодня уже не спасет. Какой-то странный звук, будто кто-то свистит в ухо. Чуть слышно. Фью-фью-фью… Почему-то остались в памяти щербинки на его лице. Смотрел он скорее ласково, но была страшна эта ласковость. С такой лаской смотрит пума на уже беспомощную жертву. Трепыхайся-трепыхайся, у меня время есть… Что может быть слаще – смотреть на агонию врага…
– Сергачев!
– Это я, Топилин, товарищ командующий армией. Сергачев вчера был убит. На ваших глазах. Он вас прикрывал.
– Я помню. Прости. Слушай, Топилин, сходи в медсанбат, если они ещё живы. Позови мне э…
– Мединструктора. Я понимаю. Так они же рядом, за… Будет мигом сделано.
– Если она оперирует, тогда не надо. Нет, надо. Надо, Топилин. Как только закончит, пусть бежит. Мало времени уже.
– Какая там операция…
– И кто там свистит все время?
– Никак нет, товарищ командующий. Это у вас контузия. Не только рана, но и контузия. Рана, правда, не серьезная. Пустяковая рана.
– Это я знаю. Хороший ты парень, Топилин, душевный. Иди!
Добрый парень, глаза добрые. И тогда глаза были тоже добрые. Но с прищуром. Впрочем, скорее всего, щербатый действительно хорошо относился к нему. Заприметил в давние времена и поверил. Нет, он никому не верил, но симпатию сохранил. Никому не верил, но себе, своим впечатлениям доверял. Проверяя… Постоянно проверяя. То, что сам решил разобраться, – чудо. Или Анастас вспомнил молодость и вмешался. Чудо, что вспомнил, чудо, что решил спасти. Сейчас спасают только себя. Или, говорили, щербатый к бывшим конникам благоволил, это тебе не танкисты. Тухачевского отродье. Но он и конником не был. Пехота. Командовал стрелковой дивизией, корпусом. Так что, почти конник…Чудо… Нет, чудо было танцевать с Лизой. Она любила и умела танцевать. Он же еле ноги переставлял. Батя был батраком, а он – подбатрачивал. Не до танцев было… Но она так умудрялась его вести, что он начинал довольно ловко выделывать всякие па и получать удовольствие от этого замысловатого процесса. И от Лизы. Последний раз они танцевали в декабре, нет… в ноябре. На октябрьских… Или… Нет, была весна. Память стало отшибать. Но точно накануне того дня, когда он получил телеграмму от Ворошилова. Срочно прибыть в Москву. Лиза танцевала чудно. Она выпила рюмку кагора и с непривычки захмелела. Смеялась без особой причины и была счастлива. И он поддался ее настроению, хотя догадывался, что Дыбенко начал давать на него показания. Срочно надо видеть Лизу. Тишины нет. Это ему приснилось. Грохот нависает, вдавливается в уши, в поры кожи. Неужели осталась ещё кожа. Она надела новое голубое платье. Это был ее любимый цвет. Дыбенко при первой очной он не узнал. Усы и бороду у него сбрили, он весь ссохся, превратившись из статного импозантного богатыря в трясущегося забитого мужичонку из прислуги… «Брызги шампанского». Как она любила это танго. И ещё «Цветущий май» Полонского. Жаль умирать. Они фактически рядом. Стреляют за дверью. Или за кустами. Где он?..
– Товарищ командующий. По вашему приказанию мединструктор…
– Спасибо. Иди, Топилин. Постой. Хороший ты парень, Топилин. Спасибо тебе за все. Если останешься в живых, не поминай лихом. Прости, если незаслуженно… Иди!
– Лиза…
– Я все понимаю. Пора.
– Прости меня.
* * *
Уважаемый Григорий Липманович!
С огромным интересом прослушал Die Goldberg-Variationen в Вашем исполнении. Буквально с первых же нот Арии юного Johann Gottlieb Goldberg’а, так рано умершего от туберкулеза – тридцати бедняге не было (но все-таки не от сифилиса, как некоторые другие молодые композиторы), с первого перечеркнутого ординарного mordente, долгих Vorschlag’ов и doppelt-cadence мое внимание было приковано к развитию этой темы и – шире – музыкальной мысли великого лейпцигского кантора. Эта музыка прямо засасывает тебя в то, что делают Ваши пальцы, засасывает – прямо погружаешься. Классика всегда современна. Конечно, большой талант нужен! Я с ранних лет, ещё живя в полуподвале, увлекался этим творением создателя Мессы в H-moll’е (правда, в доме была только домра – прекрасный народный инструмент, хотя и без струн), особо выделяя исполинскую интерпретацию Марии Вениаминовны Юдиной – любимицы нашего самого эффективного менеджера. Однако Ваше прочтение поражает глубинным пониманием текущего момента – глобальной схватки двух миров, двух мирозданий. Ваша гражданская позиция созвучна мыслям и чувствам тех граждан Великой России, которые, несмотря на все трудности ожесточенной борьбы, продолжают жить на Родине, мужественно противостоя тому, что противостоит интересам наших сограждан. Как справедливо отметил выдающийся писатель-гуманист братской ГДР Johann Christoph Friedrich von Schiller в Оде An die Freude, написанной для дрезденской масонской ложи (Масонские ложи запрещены в Единой и Неделимой Великой России. – Ред.), «Duldet mutig, Millionen! Duldet f?r die be?re Welt! Droben ?berm Sternzelt Wird ein gro?er Gott belohnen», что означает «Выше огненных созвездий, Братья, есть блаженный мир, Претерпи, кто слаб и сир – Там награда и возмездье!». (Иностранные выражения стран НАТО запрещены в Единой и Неделимой Великой России. – Ред.) Претерпим и мы! Ваше нежелание выступать в Империи Зла – Вашингтонском Обкоме – вызывает самые искренние чувства тысяч патриотов России. Не сомневаюсь, что и Вы со временем вступите в Легион Верных Борцов за гуманизм, демократию и прогресс вместе с товарищами Башметом, Говорухиным и артистами из группы «Любэ». С нетерпением жду Ваших откровений в Диабеллиевских вариациях – этой вершине духовных исканий венского затворника. Я уже дал указание министру обороны обеспечить безопасный коридор и забронировать мне место в 6-м ряду Филармонии нашего с Вами родного города – я имею в виду Петербург.
Крепко жму Вашу правую руку. Надеюсь встретиться с Вами на музыкальном татами. (Могу Вас порадовать, сообщив, что уже играю «Московские окна» уже двумя руками вместе!!)
Президент Единой и Неделимой Великой Российской Федерации
/Подпись неразборчива. – Ред./
С подлинным верно.
Зам. Главы Админисрации /Подпись неразборчива. – Ред./
(Пропущенная буква «Т» в слове «Администрация» в собр. соч. и афоризмов Президента будет восстановлена. Виновный в этой идеологической диверсии и покушении на авторитет, его родственники, а также сотрудники аппарата издающего органа и их ближайшие родственники строго наказаны. По стране идут аресты сообщников).
* * *
Баю-баю, Машенька,
Тихое сердечко,
Проживешь ты страшненько
И сгоришь, как свечка.
* * *
Снег выпал только в январе. Она сняла дачу, вернее, комнатку с маленькой верандой в Комарове. На веранде были замерзшие банки с солеными или маринованными помидорами. Презент, так сказать, от хозяйки этого поместья в три сотки. В комнатке была печурка и лютый мороз. Узенькая железная кровать с неопределенного цвета и свежести бельем не манила отдать продрогшие тела в ее объятья. Правда, дрова были сложены в углу веранды, что внушало надежду. Лыжи они привезли с собой. Первые сутки шла борьба с печкой, дымом в комнатке и холодом. Спали не раздеваясь и не думая о любви. Вторые сутки сначала пытались встать на лыжи, а затем боролись с печкой, холодом, дымом и подскочившей температурой – не в комнате, а у нее. На третьи сутки помидоры оттаяли, но они их не попробовали, так как он увез ее, вдрызг разболевшуюся, в город, хотя они заплатили за неделю вперед. Это было самое счастливое время их совместной жизни.
* * *
Завтра на всей территории Ленинбургской области облачно, временами дождь, ветер порывистый, временами до сильного. Демонстраций протеста, одиночных несанкционированных пикетов, прогулок по городу или выхода горожан за пределы своих квартир, комнат, туалетов и прочих жилых /нежилых/ помещений не ожидается. А сейчас – легкая танцевальная музыка. Для вас поет Иосиф…
* * *
В том году грибов в России высыпало немерено. Особенно в Каргопольском уезде. Плохая это примета. К войне. Сбылась.
* * *
«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях, как на корабле: здесь, как и там, он был в сюртуке с эполетами, сильно отличавшими его от других в виду неприятельских стрелков. Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона. Оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией. Ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий».
А. П. Жандр. Флаг-офицер адмирала П. С. Нахимова.
#
«…Приказываю: 1. Предупредить весь командный, начальствующий, красноармейский и краснофлотский состав, что Севастополь должен быть удержан любой ценой. Переправы на Кавказский берег не будет…».
Директива№ 00201/оп. Командующего Северо-Кавказским фронтом маршала Семена Михайловича Буденного от 28-го мая 1942 г.
«Кузнецову, Буденному, Исакову.
/…/Противник ворвался с Северной стороны на Корабельную сторону. Боевые действия приняли характер уличных боев. Оставшиеся войска сильно устали, дрогнули, хотя большинство продолжает геройски драться <…>. Исходя из данной конкретной обстановки, прошу Вас разрешить мне в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти самолетами 200–250 человек ответственных работников, командиров на Кавказ, а также, если удастся, самому покинуть Севастополь, оставив здесь своего заместителя генерал-майора Петрова.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Октябрьский».
#
«Мой Фюрер! /…/ Предлагаю вывезти из котла отдельных специалистов – солдат и офицеров, которые могут быть использованы в дальнейших боевых действиях. Приказ об этом должен быть отдан возможно скорее, так как вскоре посадка самолетов станет невозможной. Офицеров прошу указать по имени. Обо мне, конечно, речи быть не может».
Генерал танковых войск, командующий 6-й армией Фридрих Паулюс. 24 января 1943 года.