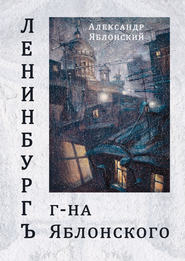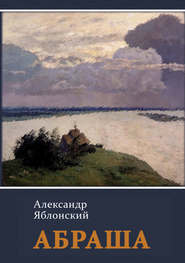По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой
Александр Павлович Яблонский
Александр Яблонский – русский писатель, профессиональный музыкант; с 1996 года живет в Бостоне; автор книги «Сны», романа «Абраша» (лонг-лист премии «НОС», 2011), антиутопии «Президент Московии», романа «Ленинбургъ», вошедшего в двухтомник избранной прозы «Изношенный халат» (1917), повестей, рассказов и научных статей.
«Ода к Радости» – возможно, лучшая книга автора. Подобно детективу, в завязке которого заложены многочисленные внешне не связанные события и образы, она интригует непредсказуемостью, динамикой и переплетением повествовательных линий, судеб исторических и «собирательных» героев, авторских реплик и исторических экскурсов, лирических сюжетов и страшных будней Великой войны. Автор всматривается в «клубящийся густой туман» совсем ещё недавней истории, пытаясь осмыслить и переосмыслить ее, находя аналогии и причинно-следственные связи со смутным настоящим и непрогнозируемым будущим, стремясь определить место человека в замесе «войны и мира». Удается ли автору таким образом создать цельное органическое полотно, – может быть, это и есть главная интрига книги.
Александр Яблонский
Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой
(Сказки для взрослых среднего и старшего школьного возраста)
Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там над звездною страною
Мир любовью озарен!..
… Небес тревожна желтизна,
Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!
* * *
Действующие лица:
Софья Андреевна – дама достойная во всех отношениях, периодически икает от переедания.
Охлопков – доцент.
Ататюрк.
М-м Поцелуева с сыновьями – женщина; леченая от триппера вдова сверхсрочника ВДВ Квакина, депутат. Действует за сценой.
Ахмат – дворник, Ударник Труда; с 2:30 до 4:00 пополудни трезв.
Автор – пианист без определенных занятий, тип.
Все остальные.
* * *
…………………………………………………………
– Маменька, поставьте чай!
– Олух! Чай не ставят. Воду ставят кипятиться. Чай уже потом настоится.
– Чтобы у меня так стоял, как ваш чай настаивается, маменька! Полгода ждать!
* * *
«Не надо петь мне о народе, о крестьянстве. Я знаю, что это такое».
(В. Шаламов, «Четвертая Вологда».)
* * *
Саша Соколов – мой тезка. Тоже Саша, и тоже родился в 1943-м. Правда, он в Канаде, а я в Ленинграде. Я хоть талоны на дополнительную гуманитарную помощь имел и удостоверение «Житель блокадного Ленинграда». А он? И в пруду я купался, что около станции, как и он. Тут большого ума не надо. Грязный был пруд. Но в писатели не вышел, как он. Это тебе здесь не Канада.
* * *
Немцы вошли под утро. Неожиданно и спокойно. Такие ребята деловые. Рукава закатаны по локоть – работники, сноровистые. Улыбаются. Лица загорелые. Лбы молочно-белые. Каски сняты, висят, болтаются. Беззаботные. Жиличка за стеной ревмя ревет. Воет. Чует. Проспала, не успела драпануть. Немец в пруду искупался. Потом у колодца окатил себя водой. Внимательно вытерся сохнувшим чистым бельем, висевшим во дворе, присел три раза. Руки в сторону, вперед, в сторону. Порты натянул. Freude, schoner Gotterfunken, Tochter aus Elysium! Гейдельбергец! Вошел в горницу. – Матка! H?nde hoch! Ха-ха! Witz! Has du Schmalz? Сало, Сало! Gut! Жиличку из комнатки вытащил, посмотрел, пощупал, ещё больше заулыбался. – Jude? Руки вытер о скатерть. Посмеялся, шнапс налил. Выпил. Gut!
* * *
Голос был вежливый до тошноты. «Вход с Воинова. Подъезд номер 13. Пропуск будет заказан…Да, в бюро пропусков на Каляева. Всего доброго. Постарайтесь не опаздывать. И, конечно, э…вы сами понимаете…». Что брать? Носки вязаные две пары, трусы, свитер, нет, свитер надеть, зубную щетку, порошок, носовые платки. Хотя, зачем они там… Маме сказать? Рубаху-ковбойку, майку, нет, лучше ещё один свитер – тоненький. Если сказать, спать не будет ночь, может и до утра не дотянуть. А не сказать… Ну, сутки можно проволынить, мало ли что – запил или на какую-нибудь подругу упал. Это бывает. Но догадается, у нее интуиция. Когда в ментовку замели, сразу сказала папе: «Сашу арестовали!». Нет, это папа сказал: «Саша в милиции. Чувствую!» У него потом инфаркт был. Но там утром выпустили. А тут не выпустят. Туалетную бумагу? – Бред! Чем там подтираются? Не газетами же ихними, коммунистическими? Надо сказать Илье, чтобы он подстраховал, позвонил вечером и брякнул между прочим, что я у них со Светкой остался ночевать, а там уж… Хотя предупредили же… Оттуда не выпускают. Кто стуканул? Господи, и поцелуй-то был скользящий, без продолжения, и не я же начал, хотя нет, я всегда первый начинаю, но она так прильнула, так…
* * *
А утро ласковое, прозрачное. Такое только в детстве бывает. Стрекозы хороводят над рекой. Перламутровое ожерелье. Туман отслоился. Лариска знает, что мальчишки из кустов подглядывают, поэтому купается нагишом. А что у нее смотреть-то?! Стиральная доска и то выпуклее. Мальчишкам же все равно, им сам процесс интересен: незаметно подползти, спрятаться… Там ими Квакин верховодит, второгодник. Девчонки тоже лазили подсматривать. Рассказывали, что ничего интересного. Малюсенькие хвостики-крантики спереди висят. И как ими что-то нехорошее делают, о чем второгодник рассказывал? А ещё интересно, умеют ли стрекозы думать, вернее, не думать, а что-то понимать? Висят, висят и вдруг, и все вместе помчались по кругу, как по команде. Опять зависли и – фьют – усвистали куда-то. Интересно, Тимур, когда был маленький, лазил за девчонками подглядывать? Он иногда приезжает, и все в него влюблены. Всё в мире интересно. Вот и бабки наши, болтуши. Одна Аграфена чего стоит! Языком метет, как помелом. Утром у Стахановых чихнули – на ферме уже знают, а в сельсовете здоровья желают, грамоту пишут с печатью. Но никто ни Тимуру, ни Сане-счетоводу, ни ихнему старшему – Николаю, которого на войне убили, – никому про Тошу ни слова не сказал и не говорит. Страшно.
* * *
Выйдя из нумеров, куда переехал из маленькой комнатки на Гран рю де Пера, по привычке и обычаю шел он к «Карпычу», заходя в увеселительный сад Пти-Шан, где ненадолго присаживался, с удовольствием вдыхая теплый, чуть пыльный, но ещё свежий воздух лениво просыпающегося города. Над ещё сонным садом плыл аромат маленьких, старых, неспешных, грязноватых и тесных кофеен, кальянных комнат, закрывшихся под утро, недавно обосновавшихся здесь русских заведений, называвшихся «Кондитерскими» и работавшими – неслыханное дело – 24 часа, куда потянулись местные жители, отдавая предпочтение русским сладостям перед местным заварным кремом мухаллеби. И аромат цветов. Cite de Pera оккупировали цветочницы из погибшей Империи всех возрастов, ступеней социальной иерархии, национальности, внешности, но в одинаковой степени привлекательных, как правило, коротко стриженных, что было так экзотично и charmant- турчанки как с ума посходили от этой новой моды ? la russe. Вообще эти русские переполошили досель провинциальных местных барышень и матрон. Многие по примеру северных красавиц отказались от вуалей и увлеклись марлевыми повязками или тюрбанами на голове, стали устраивать балы-маскарады и чайные посиделки, познали запретный ранее отдых на пляже (новое слово!) – это, согласитесь, нечто невообразимое и небывалое до высадки беженцев из Крыма. Цветочницы – девицы, дамы, девочки и их матери, жены генералов и невесты юных корниловцев, образуя две благоухающие, радужно переливающиеся жизнерадостные линии вдоль стен Пассажа, который вскоре переименовали в Цветочный, дали этому старому турецкому району очарование молодости, надежды, европейского изящества.
Много лет спустя, завершая свою долгую и чудную, несмотря ни на что, жизнь, исколесив полмира – от Буэнос-Айреса до Воркуты, полюбив Париж и Прагу, радостно вдохнув воздух родного города на Неве (увы, недолго длилось это счастье), именно здесь – на Пера – он, как и многие, если не большинство русских: галлиполийцев и пожилых фрейлин, обритых наголо из-за страха перед вшами, офицеров и писателей, приват-доцентов и борцов «французского» стиля, студентов и мелкопоместных помещиков, камер-юнкеров и брадобреев, чиновников разных классов и классных дам, земских врачей и портных, банковских служащих и композиторов, лидеров партии «октябристов» в Думе и рядовых боевиков – социалистов-революционеров, казачьих старшин и священнослужителей, заводчиков и биржевых шулеров, кадетов и станционных смотрителей, мелких купцов и разорившихся аристократов, продавщиц и прачек, «русских» (то есть «лучших») «механиков» – шоферов и артистов Императорских театров, РМО, кафешантанов, цирка Чинизелли – «цвета Петербурга», обитателей «Пера Палас» – кто мог себе это позволить, и района Харбие, а также русских церквей и монастыря – всех остальных, неимущих, – как большинство русских на Босфоре, он с ностальгией вспоминал Константинопольское стояние, считая его лучшим временем в изгнании. Здесь они были «почти дома».
И впрямь: в «Черной розе» пел Вертинский, такой же изысканный, грассирующий, жеманный, и также неистовствовала публика, как некогда на Вилле Роде, внове было лишь то, что каждый вечер по телефонному аппарату заказывал столик Верховный Комиссар всех оккупационных войск контр-адмирал САСШ Марк Ламберт Бристоль, который прибывал к ночи с супругой и свитой в ожидании выхода кумира Пера и своей любимой гусарской – «Оружием на солнце сверкая…».
Чуть в сторону от Пера – «Русский маяк». Выставлявшие там свои работы отечественные художники в ранний утренний час ещё спали, но к вечеру русская жизнь бурлила: суетился импресарио художников Петр Караваев; Павел Луниц, прекрасный петербургский пианист, подходил к роялю – его сольные концерты были визитной карточкой «Маяка»; дирижер Иван Полянский репетировал со своим оркестриком. Всё как дома. Как дома и игорный дом – как же без игорного! Его содержал господин Альдбрандт. Из Одессы, вестимо… Кажется, там играл любимец Петербурга, а потом и Константинополя, балалаечник Жан Гулеско. Наивные турки заходились в восторге, внимая его залихватским переливам. А «Русский книжный писчебумажный магазин и библиотека»! Писателей было много. Бежали, бежали. И рестораны! Где бы ни был русский человек, что бы с ним ни случалось, но любил он погулять, хоть на последние, хоть с выигрыша – это до подштанников, хоть от счастливой любви, хоть от измены, хоть с горя, хоть и со скуки, – как не погулять! Хоть в Москве, хоть на Пера – выбор большой: «Яр» и «Гнездо перелетных птиц», «Зернистая икра» и «Эрмитаж», «Украинский борщ» и «Золотой петушок». «Максим» и «Медведь», «Московит» и… Всех не упомнишь.
Встретив жену, с которой расстался в 17-м, некогда звезду российской оперетки Валентину Пионтковскую, открывшую и держащую варьете «Паризиана» – излюбленное место элиты экспедиционного корпуса, бывший миллионер, коннозаводчик, крупнейший домовладелец, а ныне нищий Владимир Петрович Смирнов открыл на деньги своей экс-супруги завод «Смирновское белое вино». Нищий – в прямом смысле: как у большинства остальных беглецов, в тощем узелке у сына и наследника 15-миллионного состояния отца была одна ценная вещь: семейная намоленная икона. Каждый, попавший в этот фантасмагорический и жуткий переплет, выживал, если делал то, что умел делать лучше других, а уж кто-кто, как не Владимир Петрович, лучше всех знал технологический процесс виноделия, секреты своего отца – Петра Арсеньевича, основателя мощной фирмы «Товарищества П. А. Смирнова», многие рецепты были записаны рукой самого Владимира Петровича и сохранились в его памяти и нищенских пожитках беглого офицера Белого движения… Именно он позже, во Львове, дал своему изделию название «Смирновская водка» вместо ранее привычного – «Смирновское белое столовое вино №…» (Лучшим «белым вином» считалось «Белое № 21»).
И многих нет уже в живых, тогда веселых, молодых. Мадам Жекулина открыла русскую гимназию. Как дома. Гимназистки румяные… На балах юнкера галантно приглашали на тур вальса этих девочек, ещё не осознавших, что их ждет в будущем. Здесь они были почти дома. Потому что рядом с домом, куда, несомненно, должны вернуться. Вот-вот. Любой кошмарный сон заканчивается. Проснешься – утро, и забыт ночной ужас. И эта жуть ненадолго. Ну, месяц. Ну, полгода от силы… И были они все вместе. Не в рассеянии, как после 24-го года…
…Из притихшего сада Пти-Шан можно было направиться прямо к «Карпычу». Напротив, через дорогу. Однако ещё рано. Посему он совершал небольшой променад. Навстречу ему шли соотечественники. Господи, сколько их! Многие кланялись ему, а некоторые дамы – выспавшиеся цветочницы и поспешавшие в свои постели уже отработавшие певички из кабаре «Стелла», которое держал знаменитый московский джазмен – негр Федор Федорович Томас, слушательницы Русского лицея старших курсов и домохозяйки, торопившиеся на рынки, продавщицы парфюмерных магазинов и машинистки бесчисленных редакций, контор, офисов (это было новое слово), элегантные официантки утренних кафе, как правило, из высшего столичного света, уборщицы гостиниц и частных домов, безработные выпускницы Смольного института, да и просто женщины, которые взломали нормы мусульманской морали, пользовавшиеся огромным спросом у турецких мужчин – стали рушиться семьи! – некоторые из них, этих милых ему соотечественниц, даже посылали ему воздушные поцелуи. Он был юн, статен, аристократичен. Его «родовое» имущество составляли идеально пристреленные самозарядные пистолеты Парабеллум (Walther 6) калибра 9 mm, дедовская икона, пара фотографий из прошлой царскосельской жизни, последнее письмо от мамы. Но какое это имело значение?!
Порой он встречал баронессу Врангель с детьми и небольшой собачкой. Ее сын, лет десяти, неизменно в черкеске с газырями (как у папы) и с настоящим кинжалом в ножнах на середине пояса… Вот его обогнал, поклонившись и приподняв шляпу, профессор по разделу Высшей математики Петербургского университета (фамилию его он запамятовал), который служит кассиром в ресторане Rejans. Около редакции газеты «Presse du Soir», что невдалеке от Русского Консульства, массивная фигура человека, тщательно одетого, с бритым лицом, толстыми губами и странным взглядом из-под пенсне. Это Аркадий Аверченко. Остановился, перекинулись новостями. «Они ещё в Кремле» – «А вы сомневались?» – «Засиделись!» – «Они там навсегда. Других для Кремля в России уже не осталось. Вывелись!». У окна кафе-кондитерской «Петроград Пастанеси» за столиком сидит жена последнего русского посла, она дает уроки французского и английского, однако ее рабочий день ещё не начался. Он поклонился ей. Около «Карпыча» мальчишка, из благородных, истошно кричит: «Пресс дю Суар! Пресс дю Суар»! Покупайте, господа!». А вот и вывеска: «Ресторанъ Георгiя Карпыча». Ресторан ещё закрыт, но ему можно. Он здесь свой.
У «Карпыча» он садился в дальний угол. Половой, смахивавший несуществующую пыль со столиков, протирая блистающие чистотой стаканы или кружки – готовясь к трудовому дню, заметив его, сразу нес стакан крепкого чая в массивном именном подстаканнике. Юрий Карпович в самом начале их знакомства, перешедшего в доверительную дружбу, делал попытки угостить его обедом или хотя бы легкой закуской. Однако Николя так глянул на Карпыча, что тот третьей попытки не делал. Лишь дважды Николя согласился выпить предложенную рюмку водки, да и то – по очень значимому поводу. Первый раз, когда разнеслась весть, что этот сифилитик сдох. Весть оказалась ложной – ихнего главаря только хватил удар. Но и эти пару часов, пока радостный слух не опровергли, пару часов счастливой надежды, первой после рейда Май-Маевского на Москву – почти дошли! – можно было отпраздновать. (В отличие от всех остальных, он не верил, что смерть тирана что-либо изменит на Родине: ушел этот, придет другой, проклято место в России пусто не бывает; проклятая страна и ее народ-богоносец, но, право, если одна сволочь наказана Господом, это уже счастье). Второй раз была личная причина. Грустная. О ней он старался не вспоминать.
Он любил сидеть и приглядывать за жизнью этого необычного ресторана. Юрий Карпович являл собой пример не только ресторатора, но и воспитателя. Поэтому турки так любили посещать это заведение, сияющее чистотой и порядком. Они не только обедали или ужинали, но и постигали азы европейской культуры застолья. Не раз наблюдал он, как официант стенал: «Так я же чаевые не получу, ежели буду медлить! Они же – турецкие господа – любят быстро поесть, торопятся. Могут и обругать заместо чаевых!» – «Да, голубчик. Могут и по мордасам надавать. Однако ж, если вы подадите, милейший, мясо ранее, чем через восемь минут после супа, я сам лично вас выгоню отсюда. Они должны привыкнуть есть с удовольствием и чинно». Карпыч шутить не любил, и это вся обслуга знала. Вымуштровал.
Сам Ататюрк иногда заходил к Карпычу. Николя его не видел, но официанты не врали. Вообще, первый Турецкий Президент, а тогда ещё Председатель Великого национального собрания был прост и не гнушался выйти в люди. Как и его лучшие ученики и последователи. Гитлер называл себя «вторым учеником Ататюрка после Муссолини». К тому же османский реформатор любил выпить. Собственно, алкоголизм, постепенно прогрессирующий, и сгубил его значительно позже – в 38-м, когда Николя уже давно в Стамбуле не было. Однако не только пагубное пристрастие и желание предаться ему в чужеземном заведении привлекала Мустафу Кемаля – под этим, подлинным именем он запомнился Николя. Что-то особенное манило будущего турецкого диктатора к Карпычу и его ресторану. Значительно позже Лида Арзуманова, ставшая со временем Лейлой Арзуман, но которая до этого события основала первую балетную школу в Турции, эта Лида писала ему, Николя, что Ататюрк переманил Карпыча в Анкару, где последний долго успешно процветал. Даже после смерти Ататюрка.
С Юрием Карповичем свела его судьба в лице двух женщин. А если совсем точно, то мужа одной из них и командующего этого мужа. Иногда Николя думал, что не будь того случая, не замолви Александр Павлович словечко его прямому командиру – генерал-майору Николаю
Владимировичу Скоблину, не прими участие в его судьбе Надежда Васильевна, как бы сложилась его судьба? И сложилась ли бы? Уж точно не был бы там, где сейчас заканчивал свои дни. Но, с другой стороны, скорее всего, не дожил бы. Покоился бы на греческом кладбище в районе Шишли или, скорее, на Большом русском военном кладбище в предместье Галлиполи.
* * *
Александр Павлович Яблонский
Александр Яблонский – русский писатель, профессиональный музыкант; с 1996 года живет в Бостоне; автор книги «Сны», романа «Абраша» (лонг-лист премии «НОС», 2011), антиутопии «Президент Московии», романа «Ленинбургъ», вошедшего в двухтомник избранной прозы «Изношенный халат» (1917), повестей, рассказов и научных статей.
«Ода к Радости» – возможно, лучшая книга автора. Подобно детективу, в завязке которого заложены многочисленные внешне не связанные события и образы, она интригует непредсказуемостью, динамикой и переплетением повествовательных линий, судеб исторических и «собирательных» героев, авторских реплик и исторических экскурсов, лирических сюжетов и страшных будней Великой войны. Автор всматривается в «клубящийся густой туман» совсем ещё недавней истории, пытаясь осмыслить и переосмыслить ее, находя аналогии и причинно-следственные связи со смутным настоящим и непрогнозируемым будущим, стремясь определить место человека в замесе «войны и мира». Удается ли автору таким образом создать цельное органическое полотно, – может быть, это и есть главная интрига книги.
Александр Яблонский
Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой
(Сказки для взрослых среднего и старшего школьного возраста)
Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там над звездною страною
Мир любовью озарен!..
… Небес тревожна желтизна,
Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!
* * *
Действующие лица:
Софья Андреевна – дама достойная во всех отношениях, периодически икает от переедания.
Охлопков – доцент.
Ататюрк.
М-м Поцелуева с сыновьями – женщина; леченая от триппера вдова сверхсрочника ВДВ Квакина, депутат. Действует за сценой.
Ахмат – дворник, Ударник Труда; с 2:30 до 4:00 пополудни трезв.
Автор – пианист без определенных занятий, тип.
Все остальные.
* * *
…………………………………………………………
– Маменька, поставьте чай!
– Олух! Чай не ставят. Воду ставят кипятиться. Чай уже потом настоится.
– Чтобы у меня так стоял, как ваш чай настаивается, маменька! Полгода ждать!
* * *
«Не надо петь мне о народе, о крестьянстве. Я знаю, что это такое».
(В. Шаламов, «Четвертая Вологда».)
* * *
Саша Соколов – мой тезка. Тоже Саша, и тоже родился в 1943-м. Правда, он в Канаде, а я в Ленинграде. Я хоть талоны на дополнительную гуманитарную помощь имел и удостоверение «Житель блокадного Ленинграда». А он? И в пруду я купался, что около станции, как и он. Тут большого ума не надо. Грязный был пруд. Но в писатели не вышел, как он. Это тебе здесь не Канада.
* * *
Немцы вошли под утро. Неожиданно и спокойно. Такие ребята деловые. Рукава закатаны по локоть – работники, сноровистые. Улыбаются. Лица загорелые. Лбы молочно-белые. Каски сняты, висят, болтаются. Беззаботные. Жиличка за стеной ревмя ревет. Воет. Чует. Проспала, не успела драпануть. Немец в пруду искупался. Потом у колодца окатил себя водой. Внимательно вытерся сохнувшим чистым бельем, висевшим во дворе, присел три раза. Руки в сторону, вперед, в сторону. Порты натянул. Freude, schoner Gotterfunken, Tochter aus Elysium! Гейдельбергец! Вошел в горницу. – Матка! H?nde hoch! Ха-ха! Witz! Has du Schmalz? Сало, Сало! Gut! Жиличку из комнатки вытащил, посмотрел, пощупал, ещё больше заулыбался. – Jude? Руки вытер о скатерть. Посмеялся, шнапс налил. Выпил. Gut!
* * *
Голос был вежливый до тошноты. «Вход с Воинова. Подъезд номер 13. Пропуск будет заказан…Да, в бюро пропусков на Каляева. Всего доброго. Постарайтесь не опаздывать. И, конечно, э…вы сами понимаете…». Что брать? Носки вязаные две пары, трусы, свитер, нет, свитер надеть, зубную щетку, порошок, носовые платки. Хотя, зачем они там… Маме сказать? Рубаху-ковбойку, майку, нет, лучше ещё один свитер – тоненький. Если сказать, спать не будет ночь, может и до утра не дотянуть. А не сказать… Ну, сутки можно проволынить, мало ли что – запил или на какую-нибудь подругу упал. Это бывает. Но догадается, у нее интуиция. Когда в ментовку замели, сразу сказала папе: «Сашу арестовали!». Нет, это папа сказал: «Саша в милиции. Чувствую!» У него потом инфаркт был. Но там утром выпустили. А тут не выпустят. Туалетную бумагу? – Бред! Чем там подтираются? Не газетами же ихними, коммунистическими? Надо сказать Илье, чтобы он подстраховал, позвонил вечером и брякнул между прочим, что я у них со Светкой остался ночевать, а там уж… Хотя предупредили же… Оттуда не выпускают. Кто стуканул? Господи, и поцелуй-то был скользящий, без продолжения, и не я же начал, хотя нет, я всегда первый начинаю, но она так прильнула, так…
* * *
А утро ласковое, прозрачное. Такое только в детстве бывает. Стрекозы хороводят над рекой. Перламутровое ожерелье. Туман отслоился. Лариска знает, что мальчишки из кустов подглядывают, поэтому купается нагишом. А что у нее смотреть-то?! Стиральная доска и то выпуклее. Мальчишкам же все равно, им сам процесс интересен: незаметно подползти, спрятаться… Там ими Квакин верховодит, второгодник. Девчонки тоже лазили подсматривать. Рассказывали, что ничего интересного. Малюсенькие хвостики-крантики спереди висят. И как ими что-то нехорошее делают, о чем второгодник рассказывал? А ещё интересно, умеют ли стрекозы думать, вернее, не думать, а что-то понимать? Висят, висят и вдруг, и все вместе помчались по кругу, как по команде. Опять зависли и – фьют – усвистали куда-то. Интересно, Тимур, когда был маленький, лазил за девчонками подглядывать? Он иногда приезжает, и все в него влюблены. Всё в мире интересно. Вот и бабки наши, болтуши. Одна Аграфена чего стоит! Языком метет, как помелом. Утром у Стахановых чихнули – на ферме уже знают, а в сельсовете здоровья желают, грамоту пишут с печатью. Но никто ни Тимуру, ни Сане-счетоводу, ни ихнему старшему – Николаю, которого на войне убили, – никому про Тошу ни слова не сказал и не говорит. Страшно.
* * *
Выйдя из нумеров, куда переехал из маленькой комнатки на Гран рю де Пера, по привычке и обычаю шел он к «Карпычу», заходя в увеселительный сад Пти-Шан, где ненадолго присаживался, с удовольствием вдыхая теплый, чуть пыльный, но ещё свежий воздух лениво просыпающегося города. Над ещё сонным садом плыл аромат маленьких, старых, неспешных, грязноватых и тесных кофеен, кальянных комнат, закрывшихся под утро, недавно обосновавшихся здесь русских заведений, называвшихся «Кондитерскими» и работавшими – неслыханное дело – 24 часа, куда потянулись местные жители, отдавая предпочтение русским сладостям перед местным заварным кремом мухаллеби. И аромат цветов. Cite de Pera оккупировали цветочницы из погибшей Империи всех возрастов, ступеней социальной иерархии, национальности, внешности, но в одинаковой степени привлекательных, как правило, коротко стриженных, что было так экзотично и charmant- турчанки как с ума посходили от этой новой моды ? la russe. Вообще эти русские переполошили досель провинциальных местных барышень и матрон. Многие по примеру северных красавиц отказались от вуалей и увлеклись марлевыми повязками или тюрбанами на голове, стали устраивать балы-маскарады и чайные посиделки, познали запретный ранее отдых на пляже (новое слово!) – это, согласитесь, нечто невообразимое и небывалое до высадки беженцев из Крыма. Цветочницы – девицы, дамы, девочки и их матери, жены генералов и невесты юных корниловцев, образуя две благоухающие, радужно переливающиеся жизнерадостные линии вдоль стен Пассажа, который вскоре переименовали в Цветочный, дали этому старому турецкому району очарование молодости, надежды, европейского изящества.
Много лет спустя, завершая свою долгую и чудную, несмотря ни на что, жизнь, исколесив полмира – от Буэнос-Айреса до Воркуты, полюбив Париж и Прагу, радостно вдохнув воздух родного города на Неве (увы, недолго длилось это счастье), именно здесь – на Пера – он, как и многие, если не большинство русских: галлиполийцев и пожилых фрейлин, обритых наголо из-за страха перед вшами, офицеров и писателей, приват-доцентов и борцов «французского» стиля, студентов и мелкопоместных помещиков, камер-юнкеров и брадобреев, чиновников разных классов и классных дам, земских врачей и портных, банковских служащих и композиторов, лидеров партии «октябристов» в Думе и рядовых боевиков – социалистов-революционеров, казачьих старшин и священнослужителей, заводчиков и биржевых шулеров, кадетов и станционных смотрителей, мелких купцов и разорившихся аристократов, продавщиц и прачек, «русских» (то есть «лучших») «механиков» – шоферов и артистов Императорских театров, РМО, кафешантанов, цирка Чинизелли – «цвета Петербурга», обитателей «Пера Палас» – кто мог себе это позволить, и района Харбие, а также русских церквей и монастыря – всех остальных, неимущих, – как большинство русских на Босфоре, он с ностальгией вспоминал Константинопольское стояние, считая его лучшим временем в изгнании. Здесь они были «почти дома».
И впрямь: в «Черной розе» пел Вертинский, такой же изысканный, грассирующий, жеманный, и также неистовствовала публика, как некогда на Вилле Роде, внове было лишь то, что каждый вечер по телефонному аппарату заказывал столик Верховный Комиссар всех оккупационных войск контр-адмирал САСШ Марк Ламберт Бристоль, который прибывал к ночи с супругой и свитой в ожидании выхода кумира Пера и своей любимой гусарской – «Оружием на солнце сверкая…».
Чуть в сторону от Пера – «Русский маяк». Выставлявшие там свои работы отечественные художники в ранний утренний час ещё спали, но к вечеру русская жизнь бурлила: суетился импресарио художников Петр Караваев; Павел Луниц, прекрасный петербургский пианист, подходил к роялю – его сольные концерты были визитной карточкой «Маяка»; дирижер Иван Полянский репетировал со своим оркестриком. Всё как дома. Как дома и игорный дом – как же без игорного! Его содержал господин Альдбрандт. Из Одессы, вестимо… Кажется, там играл любимец Петербурга, а потом и Константинополя, балалаечник Жан Гулеско. Наивные турки заходились в восторге, внимая его залихватским переливам. А «Русский книжный писчебумажный магазин и библиотека»! Писателей было много. Бежали, бежали. И рестораны! Где бы ни был русский человек, что бы с ним ни случалось, но любил он погулять, хоть на последние, хоть с выигрыша – это до подштанников, хоть от счастливой любви, хоть от измены, хоть с горя, хоть и со скуки, – как не погулять! Хоть в Москве, хоть на Пера – выбор большой: «Яр» и «Гнездо перелетных птиц», «Зернистая икра» и «Эрмитаж», «Украинский борщ» и «Золотой петушок». «Максим» и «Медведь», «Московит» и… Всех не упомнишь.
Встретив жену, с которой расстался в 17-м, некогда звезду российской оперетки Валентину Пионтковскую, открывшую и держащую варьете «Паризиана» – излюбленное место элиты экспедиционного корпуса, бывший миллионер, коннозаводчик, крупнейший домовладелец, а ныне нищий Владимир Петрович Смирнов открыл на деньги своей экс-супруги завод «Смирновское белое вино». Нищий – в прямом смысле: как у большинства остальных беглецов, в тощем узелке у сына и наследника 15-миллионного состояния отца была одна ценная вещь: семейная намоленная икона. Каждый, попавший в этот фантасмагорический и жуткий переплет, выживал, если делал то, что умел делать лучше других, а уж кто-кто, как не Владимир Петрович, лучше всех знал технологический процесс виноделия, секреты своего отца – Петра Арсеньевича, основателя мощной фирмы «Товарищества П. А. Смирнова», многие рецепты были записаны рукой самого Владимира Петровича и сохранились в его памяти и нищенских пожитках беглого офицера Белого движения… Именно он позже, во Львове, дал своему изделию название «Смирновская водка» вместо ранее привычного – «Смирновское белое столовое вино №…» (Лучшим «белым вином» считалось «Белое № 21»).
И многих нет уже в живых, тогда веселых, молодых. Мадам Жекулина открыла русскую гимназию. Как дома. Гимназистки румяные… На балах юнкера галантно приглашали на тур вальса этих девочек, ещё не осознавших, что их ждет в будущем. Здесь они были почти дома. Потому что рядом с домом, куда, несомненно, должны вернуться. Вот-вот. Любой кошмарный сон заканчивается. Проснешься – утро, и забыт ночной ужас. И эта жуть ненадолго. Ну, месяц. Ну, полгода от силы… И были они все вместе. Не в рассеянии, как после 24-го года…
…Из притихшего сада Пти-Шан можно было направиться прямо к «Карпычу». Напротив, через дорогу. Однако ещё рано. Посему он совершал небольшой променад. Навстречу ему шли соотечественники. Господи, сколько их! Многие кланялись ему, а некоторые дамы – выспавшиеся цветочницы и поспешавшие в свои постели уже отработавшие певички из кабаре «Стелла», которое держал знаменитый московский джазмен – негр Федор Федорович Томас, слушательницы Русского лицея старших курсов и домохозяйки, торопившиеся на рынки, продавщицы парфюмерных магазинов и машинистки бесчисленных редакций, контор, офисов (это было новое слово), элегантные официантки утренних кафе, как правило, из высшего столичного света, уборщицы гостиниц и частных домов, безработные выпускницы Смольного института, да и просто женщины, которые взломали нормы мусульманской морали, пользовавшиеся огромным спросом у турецких мужчин – стали рушиться семьи! – некоторые из них, этих милых ему соотечественниц, даже посылали ему воздушные поцелуи. Он был юн, статен, аристократичен. Его «родовое» имущество составляли идеально пристреленные самозарядные пистолеты Парабеллум (Walther 6) калибра 9 mm, дедовская икона, пара фотографий из прошлой царскосельской жизни, последнее письмо от мамы. Но какое это имело значение?!
Порой он встречал баронессу Врангель с детьми и небольшой собачкой. Ее сын, лет десяти, неизменно в черкеске с газырями (как у папы) и с настоящим кинжалом в ножнах на середине пояса… Вот его обогнал, поклонившись и приподняв шляпу, профессор по разделу Высшей математики Петербургского университета (фамилию его он запамятовал), который служит кассиром в ресторане Rejans. Около редакции газеты «Presse du Soir», что невдалеке от Русского Консульства, массивная фигура человека, тщательно одетого, с бритым лицом, толстыми губами и странным взглядом из-под пенсне. Это Аркадий Аверченко. Остановился, перекинулись новостями. «Они ещё в Кремле» – «А вы сомневались?» – «Засиделись!» – «Они там навсегда. Других для Кремля в России уже не осталось. Вывелись!». У окна кафе-кондитерской «Петроград Пастанеси» за столиком сидит жена последнего русского посла, она дает уроки французского и английского, однако ее рабочий день ещё не начался. Он поклонился ей. Около «Карпыча» мальчишка, из благородных, истошно кричит: «Пресс дю Суар! Пресс дю Суар»! Покупайте, господа!». А вот и вывеска: «Ресторанъ Георгiя Карпыча». Ресторан ещё закрыт, но ему можно. Он здесь свой.
У «Карпыча» он садился в дальний угол. Половой, смахивавший несуществующую пыль со столиков, протирая блистающие чистотой стаканы или кружки – готовясь к трудовому дню, заметив его, сразу нес стакан крепкого чая в массивном именном подстаканнике. Юрий Карпович в самом начале их знакомства, перешедшего в доверительную дружбу, делал попытки угостить его обедом или хотя бы легкой закуской. Однако Николя так глянул на Карпыча, что тот третьей попытки не делал. Лишь дважды Николя согласился выпить предложенную рюмку водки, да и то – по очень значимому поводу. Первый раз, когда разнеслась весть, что этот сифилитик сдох. Весть оказалась ложной – ихнего главаря только хватил удар. Но и эти пару часов, пока радостный слух не опровергли, пару часов счастливой надежды, первой после рейда Май-Маевского на Москву – почти дошли! – можно было отпраздновать. (В отличие от всех остальных, он не верил, что смерть тирана что-либо изменит на Родине: ушел этот, придет другой, проклято место в России пусто не бывает; проклятая страна и ее народ-богоносец, но, право, если одна сволочь наказана Господом, это уже счастье). Второй раз была личная причина. Грустная. О ней он старался не вспоминать.
Он любил сидеть и приглядывать за жизнью этого необычного ресторана. Юрий Карпович являл собой пример не только ресторатора, но и воспитателя. Поэтому турки так любили посещать это заведение, сияющее чистотой и порядком. Они не только обедали или ужинали, но и постигали азы европейской культуры застолья. Не раз наблюдал он, как официант стенал: «Так я же чаевые не получу, ежели буду медлить! Они же – турецкие господа – любят быстро поесть, торопятся. Могут и обругать заместо чаевых!» – «Да, голубчик. Могут и по мордасам надавать. Однако ж, если вы подадите, милейший, мясо ранее, чем через восемь минут после супа, я сам лично вас выгоню отсюда. Они должны привыкнуть есть с удовольствием и чинно». Карпыч шутить не любил, и это вся обслуга знала. Вымуштровал.
Сам Ататюрк иногда заходил к Карпычу. Николя его не видел, но официанты не врали. Вообще, первый Турецкий Президент, а тогда ещё Председатель Великого национального собрания был прост и не гнушался выйти в люди. Как и его лучшие ученики и последователи. Гитлер называл себя «вторым учеником Ататюрка после Муссолини». К тому же османский реформатор любил выпить. Собственно, алкоголизм, постепенно прогрессирующий, и сгубил его значительно позже – в 38-м, когда Николя уже давно в Стамбуле не было. Однако не только пагубное пристрастие и желание предаться ему в чужеземном заведении привлекала Мустафу Кемаля – под этим, подлинным именем он запомнился Николя. Что-то особенное манило будущего турецкого диктатора к Карпычу и его ресторану. Значительно позже Лида Арзуманова, ставшая со временем Лейлой Арзуман, но которая до этого события основала первую балетную школу в Турции, эта Лида писала ему, Николя, что Ататюрк переманил Карпыча в Анкару, где последний долго успешно процветал. Даже после смерти Ататюрка.
С Юрием Карповичем свела его судьба в лице двух женщин. А если совсем точно, то мужа одной из них и командующего этого мужа. Иногда Николя думал, что не будь того случая, не замолви Александр Павлович словечко его прямому командиру – генерал-майору Николаю
Владимировичу Скоблину, не прими участие в его судьбе Надежда Васильевна, как бы сложилась его судьба? И сложилась ли бы? Уж точно не был бы там, где сейчас заканчивал свои дни. Но, с другой стороны, скорее всего, не дожил бы. Покоился бы на греческом кладбище в районе Шишли или, скорее, на Большом русском военном кладбище в предместье Галлиполи.
* * *