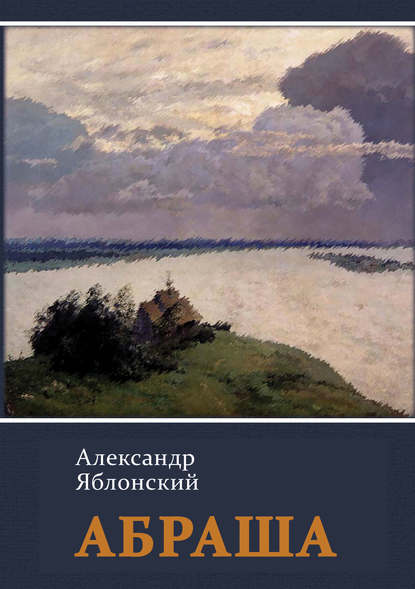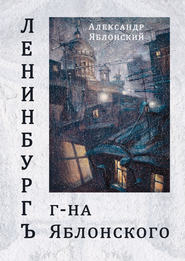По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Абраша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Олежка пил мало, пригубит и поставит, пригубит и поставит. Когда все прилично выпили и поели, пошли танцевать. Настя специально переместилась поближе к нему. Он сидел в одиночестве, разглядывая свои большие ладони. Она сразу заметила: не разговорчив, застенчив, при кажущейся неповоротливости – ловок, проворен и… остроумен – молчит, молчит, но как скажет – все в хохот. Короче, запала она на него. Одно тревожило: он был моложе ее лет на пять, если не больше. Она несколько раз ловила на себе его взгляд. Поэтому и переместилась поближе к нему, как только стали отодвигать стол, составлять в углу стулья, и с радиолы сняли тарелку с хлебом.
– А почему вас прозвали «Святой»?
– С чего вы взяли?
– Так Олег – «святой» по-скандинавски, – блеснула Настя эрудицией и еще раз подумала: «Дай Бог здоровья Абраше».
– Впервые слышу.
– А я, кстати, Настя, что значит «воскресенье» по-древнегречески, – продолжала она добивать несколько опешившего от потока новой информации Олега.
– А я знаю, – неотразимо улыбнулся он, и Настя вдруг поняла, почему не может оторвать от него глаз: у Олега были длинные, густые и пушистые ресницы. Смущенно улыбаясь, он начинал часто моргать, и эти мохнатые стражи глубоких синих глаз начинали смешно и трогательно хлопать – «хлоп», «хлоп», и Настино сердечко скатывалось куда-то вниз и в сторону.
– Вы знаете, что я – «воскресенье к новой жизни?» – ненавязчиво гнула свою линию внезапно помолодевшая и похорошевшая Настя.
– Нет, я знал ваше имя.
Олег покраснел и занялся дальнейшим изучением своих крупных рук.
В этот момент кто-то толкнул Настю, и она увидела, что это – Алена. Сестра выразительно и якобы незаметно развела руками и закатила глаза, и Настя не поняла, что обозначает эта жестикуляция: мол, «Чего ты на парня уставилась» или «Чего не приглашаешь его, дуреха?» Сообразительная Настя остановилась на втором варианте решения задачи, и выдавила из себя: «Вы танцуете?». Не поднимая головы, Олег кивнул, неловко поднялся, одернул свитер и обнял Настю.
«Анастасия, – медленно, томно и сладко заклинал чей-то голос – то ли мужской, то ли женский, – Анастасия»…
* * *
Впервые Николенька выпил в восьмом классе. Тогда собрались всем классом на квартире у Гути, у которого родители, собравшись за город – распечатывать после зимы свою дачу, – после долгих колебаний решили попробовать оставить сына одного в квартире без присмотра. Через полчаса эта радостная новость облетела всю мужскую составляющую их класса, и в пятницу вечером к шести часам наиболее нетерпеливые уже подгребали на Петрушку, 37, и там паслись невдалеке от Гутиной парадной, томительно ожидая выхода из нее Берты Соломоновны и Филиппа Арнольдовича с тюками в руках – счастливого пути, предки!
На эту свою первую вечеринку Кока пришел с опозданием, после английского (в отличие от своих сверстников он не занимался музыкой, фигурным катаньем или плаваньем, но ходил к педагогам по немецкому и английскому, педагоги были классные – университетские). К его приходу веселье достигло кульминации, все уже были пьяны. На столе стояло несколько бутылок дешевого портвейна и какая-то вспухшая банка с консервами. Портвейн еще было пить можно, всё же не водка. Выпив пару стаканов и закусив дурно пахнувшими рыбными консервами, Николенька отрубился и то, что происходило дальше, знал лишь по рассказам. Оказалось, что домой он добрался благополучно. А вот Гарик – его ближайший дружок, отличник и «маменькин сынок» как незлобно дразнили его другие «маменькины сынки» – одноклассники, так вот, Гарик пришел домой без штанов. В пиджаке, рубашке, галстуке, в туфлях, носках со штрипками и даже в жилетке, но без штанов. Вспомнить, где он оставил штаны, Гарик не мог, видимо, зашел в первую попавшуюся парадную пописать и забыл поднять штаны… Эмилия Фердинандовна обегала все близлежащие парадные, но брюки так и не нашла. Пропал костюм, сшитый впервые в жизни в специальном закрытом ателье МВД. Хохоту потом было! В жилетке, галстуке, пиджаке и без штанов… Как выяснилось в понедельник, Гутю сильно не наказывали, только Филипп Арнольдович разбил о Гутину голову его любимую пластинку с «Лос Мехиканос» – Гутя обожал «Besame, вesame mucho», – а Берта Соломоновна отвела Гутю за ручку в парикмахерскую, где его остригли наголо – это было ужасно: вместо густой буйной пшеничной шевелюры, на которую заглядывались даже девочки из старших классов, жалобно поблескивала унылая синеватая тыквочка с оттопыренными ушами и испуганными глазами. От потрясения Гутя два дня не ходил в школу, и, что поразительно, учителя сочли причину пропусков уважительной. Свою квартиру семья Гуттенбергов отдраивала неделю.
Во второй раз Кока наклюкался в парадной. Сначала выпили на скамейке бульвара Чернышевского бутылку вермута – жуткая гадость, – но настроение поднялось, как только этот ужас окончательно протолкнули в желудок. Очень скоро стало весьма весело: особенно забавляло пугать старушек, гулявших с маленькими собачками – надо было спокойно, как ни в чем не бывало, подойти и, поравнявшись с бабулей, громко кричать: «Собачка, собачка, где хвост, там и срачка». Бабули в изумлении отшатывались, и общество ликовало. Кока сначала боялся нарваться на знакомых своих родителей, но потом осмелел и перестал различать лица прохожих. Когда старушки закончились, все втиснулись в будку телефона-автомата и стали звонить: набирали любой телефон, скажем, «Ж-2-20-32» и, стараясь не хохотать, сообщали об отключаемой воде, купании слона или похоронах дяди. Монеток хватило на четыре звонка. Вот тут-то и надо было закончить праздник души, так как рука бойцов колоть устала, но самый старший и самый продвинутый Сергеев – «Серый» – сказал, что гусары пьют стоя – к чему, непонятно, – что отступать нельзя, и, вообще, у него есть два рубля. «Фиеста продолжается!». Вова – «Сиколяка» – пробурчал, что он пить больше не может, а Кока – черт за язык дернул – заявил, что он может пить, сколько хочет. Слово за слово… В конце концов, дошло до того, что он оповестил всю Кирочную: выпью, зуб даю, «маленькую» на одном дыхании, не останавливаясь. Забились. Серый вынул два рубля, купили «маленькую», пошли на Маяковскую в парадную, в которой жила семья дирижера Дониях, и… Кока спор выиграл, правда, блевал потом всю ночь – родители еле успевали оттаскивать тазики в туалет. Ну а третий раз, наконец, было с девочками.
Уже в десятом классе он пригасил к себе в гости друзей. Родители уехали в Москву к дяде Сереже, и он воспользовался свободой, тем более что квартира опустела: дело было летом, все соседи разъехались, кто куда. Гости – два его друга пришли не одни, а с двумя девочками-девятиклассницами. Тогда пили мамину настойку, смешав ее с водкой, которую принесли его дружки. После водки с настойкой танцевали. А потом… А потом Николенька с одной из девочек – Олей и поцеловался – впервые в жизни. Целоваться Оля явно не умела. У нее были какие-то мягкие, послушные, чуть солоноватые губы, которые она с готовностью подставляла, но никак не отвечала на его действия. Николенька тоже не отличался опытом и мастерством в этом деле. Поэтому получилось как-то неуклюже. Кончик носа у девочки был холодный, хотя в комнате было жарко. Целуясь, она не закрывала глаза, как это делали героини известных фильмов, а смотрела на него не то с удивлением, не то с укоризной. Но не отталкивала, а, наоборот, – прижималась и обнимала за шею. Как бы то ни было, но, всё равно, ему понравилось. Девочка прильнула к нему, и эта близость юного, но уже просыпающегося женского тела, ощущение его доверчивости, беззащитности, готовности и явного желания отдать себя в его – Николину власть, – всё это привело его в состояние мужского восторга, которое он никогда досель не испытывал. Одно дело читать или фантазировать, другое дело ощущать под своими руками податливые плечи, талию, спину, чувствовать дыхание… даже запах дешевых духов его не раздражал, а манил соблазнами новой взрослой жизни. На радостях Кока и напился. Вернее, напился он не только по собственной инициативе. Ему помог еще и дружок, который остался без девочки. Даник был маленький, но хитрый мальчик. Он сразу просек, что Таня, пришедшая с Сашей Гуреевым от Саши не отстанет – у них был старый роман, а Оля, которую он, собственно, и привел к Коке, явно положила глаз на хозяина квартиры. Решение пришло быстро: уверяя Коку в нерушимости дружбы – за это надо выпить, неотразимости мужской силы – еще по одной, скором успешном окончании школы – ну, здесь по полной, сам Бог велел, – довел Коку до нужной кондиции. Довольно скоро Николенька оказался в туалете в обнимку с унитазом. Целовалась ли Оля с его сообразительным дружком, он так и не узнал, так как больше Олю никогда не видел, а спрашивать дружка было ниже его достоинства. Единственно с кем он поделился, это с Пригожиным – самым умным и воспитанным мальчиком в классе, наверняка, в ближайшем будущем – медалистом. Они тогда сидели на одной парте и делились своими тайнами. Выслушав горестную историю любви, Енот сказал: «Все они такие». – «Кто они?» – «Евреи». – «Какие?» – «Какие, какие… Хитрожопые!».
* * *
– Ну вот, Александр Николаевич, вы все молчите и молчите. Напрасно. Ведь я понять вас хочу. Мое вечное перо закрыто. Запись не ведем, никто нас не слышит.
– Мне нечего сказать.
– Опять вы за свое. Адреса, явки, пароли мне не нужны. Ваш адрес нам известен, как вы уже догадались. Попробуйте мне растолковать, как вы – человек интеллигентный, голубых кровей, потомственный дворянин, как-никак, носитель древней фамилии – и…
– Мне нечего сказать.
– Господи, да выучите вы какую-нибудь другую фразу. Кстати, чаю горячего не хотите? Погодите… Э… Капитан, приготовьте нам пару стаканов чаю с лимоном. Кофе, к сожалению, не могу предложить, любезный Александр Николаевич. Не держим-с.
– Я не голоден.
– Слава Богу! Новое слово от вас услышал. Надеюсь, Вас кормят нормально. Слушайте, за что вы так нас не любите? Нет, я понимаю, нас многие боятся. И любить нас не обязаны. Мы – не девушка. Но я вижу, что вы не просто нас не любите, вы видите в нас врагов. А почему? Ваши близкие, ваши предки, насколько я в курсе дела, не пострадали ни в годы Гражданской, когда ох уж как на вашего брата – на старорежимных – охотились, ни в тридцатых, ни позже. Хотя, поверьте мне – я, как видите, абсолютно откровенен – нам было хорошо известно, кто вы и что вы думаете, и что говорите, и каково ваше окружение. Нарушаю я правила, да никто, авось, не узнает – вы же человек чести, – но скажу, разрабатывали мы вас, но, поверьте, не подлецы и не дураки здесь работают, хотя и таких много, и поэтому решили, оставить вас в покое. Живите, работайте, размножайтесь, так сказать. Извините, конечно. Э… Войдите. Спасибо, капитан. Вы свободы. Угощайтесь, пока не остыл.
– Благодарствую. Не хочу.
– Упрямый вы человек. Да… Так о чем я?.. Не любите… А за что? – Конечно, наворотили наши ребята в свое время много. Но партия осудила и наказала. И вы это прекрасно знаете. Хотите правду? – Я ее долгое время тщательно скрывал, да и сейчас стараюсь не говорить на эту тему. Знаете, кем был мой отец? – Мой отец был старшим майором государственной безопасности, то есть в звании, равнозначном общевойсковому генерал-майору или контр-адмиралу. Где он сейчас? – В могиле. А почему он в могиле? – А потому, что расстрелян. Своими же подчиненными и сослуживцами. Вернее, приводили приговор в исполнение не они, но они топили его, показывали против него, размазывали его. И обвинили его в том, что он – троцкист, японский, английский и немецкий шпион. Нелепость самой этой комбинации очевидна. Но и по сути это был бред – страшный бред, потому что мой папа кровь проливал за Советскую власть и к врагам был беспощаден, и честен, и справедлив, и, кстати, зубов подследственным на допросах не выбивал, и не…
– Может, поэтому и расстреляли?
– Может быть, Александр Николаевич, и поэтому, но не к тому веду. Ожесточился ли я? Извините, разгорячился… Да, пейте вы чай!.. А сейчас абсолютно трезво скажу: нет, я не увидел в наших органах своих врагов, хотя, поверьте, своего отца я любил и люблю больше жизни. Люблю и горжусь. А эту сволочь с ромбами или в погонах НКВД, которая его сдавала, ненавижу. Высшая справедливость существует, и большая часть из них расстреляна, но я всё равно их ненавижу. Но не органы. Не власть. Не партию. Кстати, хотите, я назову пару имен тех негодяев, кто на моего отца писал бредовые доносы и, глядя ему в глаза, потом их подтверждал?
– Не интересуюсь.
– А вы уж потерпите. Я же терплю ваше «мне нечего сказать, мне нечего сказать», как баран заладил одно и то же. Извините. Так вот. Фамилии хотя бы двоих были: старший лейтенант государственной безопасности Шульман Григорий Моисеевич и майор государственной безопасности Розовский Семен э… отчества не помню. А бил его – бил ногами в живот, в лицо, до полусмерти – у папы была сломана челюсть, когда его расстреливали, он не мог стоять на ногах, так как ступня была раздроблена – так бил его сержант государственной безопасности Шапиро. Правда, расстреливал Иванов Пантелеймон Сидорович. Да пейте вы чай, лимон пропадает… Вот так, другое дело. Вы же разумный человек. Кстати, вы представитель какой линии «Измайловичей»: Бориса Измайловича, Всеволода, Вячеслава или Владимира?
– Бориса. Но не по прямой линии, касательно, так сказать.
– «Лифляндского». Который, коль не ошибаюсь, в Юрьевском университете профессорствовал…
– А вы знатно подготовились, гражданин следователь.
– Как приятно, наконец, слышать ваш голос. Да, не скрою, я готовился. Это – удовольствие знакомиться с таким знатным, древним родом, с такой фамилией. Трудно, конечно, труднее, чем зубы выбивать, но интереснее и приятнее. Хотя выбивать я тоже умею. Нет, нет, к вам это не относится, у нас с вами беседа по душам, не ухмыляйтесь, не под протокол. Просто понять я хочу, как вы – потомственный дворянин, носитель древней фамилии…
– То есть ваш классовый враг!
– Заметьте: если бы вы перебили другого следователя, то уже давно превратились бы в мычащий кусок кровавого мяса… Хотите еще чаю? Вы правы – классовый враг. Но главное всё же не это, а то, что мы русские люди, и у нас одна Родина, и мы ее любим, любим по-разному, по-своему, но любим, и вы любите, я в этом не сомневаюсь. И мы, несмотря на разницу происхождения, люди одной культуры – Толстого, Чехова, Пушкина. Да и происхождение не такое уж разное. Ваши предки наукой занимались: физической географией в Юрьеве или филологией-славистикой, как самый знаменитый представитель вашей фамилии. Мой же прадед был поп-расстрига, а дед – мелким торговцем чаем. Еще чаю?
– Нет, сыт. Спасибо.
– Пожалуйста. Так что и ваши кровь из народа не пили, и мои не были забитым плебсом. И вы, и мы кормили: вы – духовно, мы – физически – чаёк все любят. А? Так что не враги мы, Александр Николаевич. Не друзья, конечно, но и не враги. И не смотрите вы на меня исподлобья. Так объясните мне, грешному, почему вы, русский человек, неглупый, с корнями…
– Спасибо.
– Пожалуйста. С корнями, уходящими в русскую историю и культуру, вы постоянно защищаете этих сионистов. Причем не простых советских людей еврейской национальности. Это правильно. Мы все – интернационалисты и антисемитизм нам чужд. У меня есть друзья евреи – очень приличные люди: и профессор, и врачи, есть даже лауреат конкурса скрипачей – чудный мальчик. Но сионизм – это наш враг, как враг этих наших друзей-евреев, это попытка расколоть общество, это диверсия: оторвать людей от их почвы, от Родины. И вообще – все эти разговоры об их Боге, об их обычаях – диких, кстати, для нормального человека, об их якобы «избранности», об их четырехтысячной истории – мы знаем ваши высказывания о непобедимости этих еврейчиков, об их геройстве… Постойте, вот, вот тут: в апреле, прямо перед Первым мая, Пасху вы справляли… Да не бойтесь: это ваше право тихо, по-домашнему… Так вот, Пасху вы справляли и говорили, что евреев Героев Советского Союза в процентном отношении больше, чем в других нациях. Да что вы на меня так смотрите! Мы всё знаем, что, когда, где вы говорили. Работа такая. Так дело не в том, так это или не так. А дело в том, что не поленились вы, подсчитали, задумались. Мыслями своими поделились. Пока, правда, в тесном кругу, а потом?.. Не сомневайтесь: зря мы здесь никого не держим. Мы, простите за откровенность, всё знаем, – так, это чья непобедимость? – непобедимость людей, которые, как бараны шли в печи крематориев, которых гнали на убой и никто не кинулся на охрану, не попытался убить хотя бы одного фашиста, даже не крикнул в лицо убийцам слова проклятья, как это делали наши партизаны, – эти жалкие пейсатые – непобедимы? Они и воевать-то толком не умеют!
– Это евреи-то не умеют?
– Шестидневная война не пример. Повезло им с американским оружием и нашими бывшими героями войны – там же генералы почти все нашу школу прошли, начиная с их одноглазого Даяна!
– А слова де Голля вам известны?
– ?
– После Победы генерал, не отличавшийся большой симпатией к этой нации, вынужден был признать, что «синагога дала французскому Сопротивлению больше героев, чем католическая церковь».
– Ну, французы в ту войну отличились особым коллаборационизмом, это известно, не так ли?
– Согласен.
– Слава Богу! Наконец. Во-вторых, же это – исключение.
– А восстание в варшавском гетто, когда почти безоружные парни, женщины, мужчины, старики, студенты-атеисты и ультраортодоксы, вооруженные камнями, палками, несколькими винтовками и пистолетами, притянули самые мощные силы гитлеровцев, уничтожили больше 15 тысяч немцев плюс батальон украинских и латышских эсэсовцев, и более месяца вели невиданное по трагизму, обреченности и героизму сражение, то есть сопротивлялись дольше, чем вся Польша или великая Франция. Девизом этого уникального в истории по трагизму, героизму и обреченности восстания были слова: «Из нас никто не выживет. Мы хотим спасти честь нации». – И спасли, заплатив огромную цену: погибли 7 тысяч человек и 6 тысяч сгорели заживо?.. Хорошо, не будем о сегодняшнем, это вас раздражает, гражданин следователь.