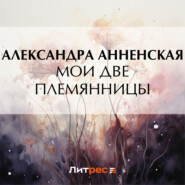По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Без роду, без племени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алена отыскала где-то старую перинку, дала свою подушку и устроила Анне постель в самом теплом углу кухни. С наслаждением протянула девочка свои усталые, иззябшие члены, с наслаждением позволила укутать себя тяжелым тулупом. Она не раздумывала о том, к кому попала, о том, что ждет ее завтра; в эту минуту ей было хорошо, она закрыла глаза и, без мысли о прошлом, без заботы о будущем, заснула крепким, мирным детским сном…
На другое утро все в доме встали, Федот грянул об пол большую вязанку дров, Алена шумно раздувала самовар, хозяева несколько раз заглядывали в кухню, а она спала все так же спокойно.
– Эко ребячество, подумаешь! – добродушно усмехнулся Андрей Кузьмич. – Сирота безродная, в чужом доме, а спит себе – и горюшка нет.
– Какая она маленькая, да худенькая! – говорила Аксинья Ивановна, наклоняясь над спящей. – Как есть ребеночек. Жаль мне ее, Андрей Кузьмич, не поверишь, до чего жаль.
– Как не жалеть? Известное дело, жаль! – отвечал Андрей Кузьмич. – А все же нам беглых укрывать не приходится. Ужо вечерком удосужусь, надо будет отвезти ее в этот, как его, Сиротский дом.
– Неужели отвезешь? – испугалась Аксинья Ивановна.
– А то что же? Хочешь, чтобы полиция пришла да нашла ее у нас?
Аксинья Ивановна тяжело вздохнула и еще раз с состраданием посмотрела на спящую девочку.
Когда Анна проснулась, Андрея Кузьмича уже не было дома: он отправился, по обыкновению, с утра в свою лавку. Аксинья Ивановна и Алена так ласково обошлись с ней, что она почувствовала к ним полное доверие и без всякого принуждения рассказала им свою несложную историю. Одно только прошла она молчанием – свои отношения к Нине Ивановне. Она сама не понимала отчего, но ей было как-то неловко и тяжело говорить об этом. Аксинья Ивановна и Алена слушали её рассказ с величайшим сочувствием.
– Что же ты теперь станешь делать, голубушка? – спросила Аксинья Ивановна, вытирая слезу, навернувшуюся на глаза её при мысли о безотрадном положении сироты. – Куда ты денешься? Ведь у тебя нет паспорта, а без паспорта никто тебя держать не будет.
Анна не имела никакого понятия о паспортах и очень удивилась, когда узнала, что не может жить везде, где захочет.
– Придется тебе вернуться в приют, – заметила Алена.
– Ни за что на свете! – вскричала девочка. – Лучше уж прямо помереть!
Ей живо представилось, как подруги будут поддразнивать ее, как Марья Семеновна станет попрекать ее, каким суровым взглядом посмотрит на нее Нина Ивановна, и ей казалось, что в самом деле лучше смерть, чем возвращение ко всем им…
А ведь ей предстояла даже не жизнь в приюте, а еще худшее: ее отдадут к злой прачке; там она не может остаться, она убежит, опять убежит, и опять придется ей перенести все то, что она перенесла в те ужасные сутки, которые провела, бесцельно бродя по улицам; резкий зимний ветер опять будет до костей пронизывать ее; она будет бояться и всякого встречного прохожего, и всякого темного безлюдного переулка; измученная, обессиленная, опять упадет она где-нибудь на кучу холодного снега и опять услышит над собой грубые голоса каких-то мастеровых: – «Смотри-ка, девчонка валяется. Надо стащить ее в полицию». И она вскочит, обезумев от страха, и пойдет дальше, сама не зная куда. Голод будет мучить ее. Она увидит торговок с калачами и пирогами, увидит освещенные окна булочных и колбасных, но она не посмеет подойти, не посмеет ни выпросить, ни украсть себе кусок пищи… Как, неужели еще раз пережить все это? Неужели еще будет такая ужасная ночь, такой ужасный день?!
– Говорят, есть люди, которые сами себя убивают, – проговорила она полувопросительно. – Вот и я также убью себя.
– Полно, полно, девонька! Христос с тобой! – ужаснулась Аксинья Ивановна. – Да как у тебя язык поворачивается страсти такие говорить? Сохрани Господи!.. Нет, ты постой, вон ужо хозяин придет, мы потолкуем: авось, он надумает, как твое дело уладить.
В этот день Андрей Кузьмич закрыл свою лавку ранее обыкновенного: его беспокоило, что в доме его скрывается беспаспортная беглянка, ему захотелось поскорее разделаться с ней. Аксинья Ивановна рассказала ему, что Анна боится пуще смерти возвращения в приют и со слезами просила его сделать что-нибудь для бедной сироты.
– Да что же для неё сделать? – усмехнулся Андрей Кузьмич. – Не хочешь ли, я возьму ее к тебе в горничные? Из приюта, говорят, отдают девушек в услужение: может, и ее отдадут.
– А что же, и вправду бы взять нам ее! – обрадовалась Аксинья Ивановна. – Я целые дни все одна да одна, хотя бы человек живой был возле меня. Алена, ведь ты знаешь, у нас какая: от неё не скоро слова добьешься. А взяли бы мы сиротку, ей бы добро сделали, да и нам утеха бы была. Детей у нас нет, хоть бы чужую призрели…
– Выдумала тоже! С улицы побродягу взяла, да на уж, и в дочки записала. Нет, это не дело. А коли так, в прислуги нам ее отдадут, за пищу да за одежу, так оно можно. Куском хлеба она нас не объест, это что говорить. Вот, съезжу к её начальству, объявлю, что она у меня, пусть там рассудят…
Аксинья Ивановна не сказала Анне, куда поехал Андрей Кузьмич: она боялась, что девочка, испугавшись приюта, или убежит, или, Боже сохрани, что-нибудь над собой сделает, и Анна помогала Алене убирать кухонную посуду, вовсе не подозревая, что в эти минуты решается её судьба. После всего испытанного в последние дни ей было так хорошо в теплых светлых комнатах Постниковых, будущее представлялось ей таким мрачным, что она нарочно старалась не заглядывать в него; она чувствовала, что не может придумать ничего сама для себя, и смутно надеялась, что добрые люди, приютившие ее, защитят ее, позаботятся о ней.
Поздно вечером вернулся Андрей Кузьмич.
– Ну, как тебя там, Аннушка! – сказал он, входя в комнату, где сидела Аксинья Ивановна. – Собирайся, тебя велели сейчас же в приют предоставить.
Анна вскочила с места. Смертельная бледность покрыла щеки её.
– Я не поеду! – решительно проговорила она, и в глазах её блеснул злобный огонек.
– Не поеду?.. Ишь как! – усмехнулся Андрей Кузьмич. – Куда же ты денешься? У нас, что ли, жить хочешь?
– Оставьте меня у себя! – заговорила девочка с мольбой в голосе. – Я буду вам работать. Я ведь умею и шить, и пол мыть, и печки топить, и чулки вязать.
– Работница, то же!
Андрей Кузьмич с усмешкой поглядел на худенькие ручки, протягивавшиеся к нему.
– Ну, ин, так и быть. Возьмем ее, Аксинья Ивановна, пусть живет у нас. Да только послушной быть, Аннушка. Я так и в приюте сказал: возьму, сказал, не обижу, беречь буду, а только что если дурное замечу, не прогневайтесь: к вам прямым путем привезу. На том и порешили.
Анна почти не слушала, что говорил Андрей Кузьмич.
При первых же словах его она порывисто бросилась к Аксинье Ивановне, охватила ее обеими руками и зарыдала, прижавшись к плечу её.
Эта детская ласка, эти слезы смягчили сердце Андрея Кузьмича, Аксинью Ивановну нечего было смягчать: она плакала вместе с Анной и нежно ласкала безродную сироту.
Глава VI
Анна осталась у Постниковых. Для неё началась новая жизнь, совершенно отличная от прежней; все в этой жизни представлялось ей необычайным. Вставать не по звонку, есть не по строго отмеренным порциям, а сколько хочется, не знать никаких уроков, никакой определенной работы. Андрей Кузьмич настаивал на том, что девочку не следует баловать и приучать к праздности; что она должна и помогать Алене, и исполнять все обязанности комнатной прислуги. Но Аксинья Ивановна была другого мнения. Она сама ничего не делала, – если не считать делом мелкие бисерные работы да тамбурные салфеточки, которыми она украшала свои комнаты, – ей было скучно сидеть целые дни одной, особенно в дурную погоду, когда нельзя было ни идти гулять, ни ждать посещения какой-нибудь словоохотливой кумушки. Она беспрестанно вызывала Анну из кухни, усаживала ее подле себя, предлагала ей погрызть вместе кедровых орешков или подсолнечных семечек, расспрашивала у неё обо всех подробностях её приютской жизни и сама рассказывала ей бесконечные истории о своих родных и знакомых. Еще первое время Анна немного работала. Аксинья Ивановна купила ей холста на белье, ситцу и дешевенькой шерстяной материи на платья, пригласила свою знакомую швею скроить все необходимые вещи, и девочке пришлось приложить к делу уроки шитья, полученные от Марьи Семеновны. Она принялась за работу очень охотно, ей хотелось поскорей надеть и чистую, сравнительно тонкую рубашку, и, главное, розовое шерстяное платье; но, увы! скоро оказалось, что её леность в приюте не прошла даром. Несмотря на все старанье, она не умела шить хорошо: одно она вытягивала, другое посаживала, одно у неё шло вкривь, другое вкось. Аксинья Ивановна подсмеивалась над её неумелостью, иногда помогала ей, а чаще просто поручала швее все трудные части работы. Наконец обновки были готовы, и Анна с удовольствием могла променять свой приютский костюм на домашний. Когда она посмотрелась в зеркало и увидела себя не в неуклюжем сером, а в хорошеньком светлом платьице, сшитом по моде, ей показалось, что она стала каким-то совсем другим существом, что она уже не прежняя безродная сирота; теперь она ничем не отличается от девочек, которые гуляют по улице с отцами и матерями: она одета так же, как они, у неё есть свой дом, есть люди близкие, готовые заботиться о ней, защищать, любить ее. И она, шурша своим новым платьем, весело бегала по комнатам, играла с кошкой, целовала Аксинью Ивановну, слегка покровительственно относилась к Алене и свободно заговаривала с самим хозяином.
– Ишь, какая прыткая девчонка? – замечал Андрей Кузьмич. – А как мы с Федотом у ворот ее нашли, на ногах не стояла. Слабая, болезненная такая была, того гляди помрет… А она – вон как развернулась!
Анна в самом деле развернулась, ожила. Она не была тем озлобленным зверком, каким делало ее дурное обращение Катерины Алексеевны, она не волновалась постоянно, как при Нине Ивановне. В доме Постниковых никто не говорил ей, что она должна исправиться от своих недостатков, должна стараться сделаться лучше и добрее, никто ничему не учил ее, не вызывал на дурные поступки. Обязанностей не лежало на ней никаких, – значит, и упрекать ее за леность или неаккуратность никто не мог. Когда она, по собственной охоте, принималась за какие-нибудь мелкие домашние работы и неумело выполняла их, никто не бранил ее. Алена обыкновенно спокойно брала у неё из рук полотенце, которым она не до суха вытерла чашки, ложку, которой она безуспешно пыталась снимать с молока сливки, щетку, которой она подметала пол, оставляя за собой кучи сору, и, ни слова не говоря, сама ловко и быстро справляла работу. Алена привыкла трудиться с утра до ночи, привыкла, что все в доме делалось её руками; всякую помощь она считала не только бесполезной, но даже как будто обидной себе.
Аксинья Ивановна знала, что Алена сделает все, что нужно, и сделает хорошо, вовремя, – значит, ей и заботиться не о чем. Ей никогда не приходило в голову, что Анне следует работать для собственной пользы, что праздная жизнь, отвычка от труда могут быть вредны для бедной девочки, взятой ею на свое попечение. Она никогда не собиралась воспитывать Анну, даже, по правде сказать, и не понимала, что это значит. В первые минуты ей просто жаль стало голодного, иззябшего ребенка, а потом она нашла, что ребенок этот помогает ей прогонять скуку, начинавшую с каждым годом все более и более одолевать ее. Действительно, первое время Анна внесла немало оживления в тихий дом Постниковых. Девочка как будто вознаграждала себя за те стеснения, каким подвергалась в приюте: беспрестанно слышался её голос, её звонкий смех, беспрестанно расспрашивала она о разных вещах, которых не видала никогда в жизни; всему удивлялась, восхищалась, – и меблировкой комнат, и запасами в чуланах, и запряганьем лошади, и доением коровы, и стряпней Алены, и яйцам, снесенным пестрой курочкой. Аксинье Ивановне приходилось многое ей показывать, объяснять, и при этом время летело гораздо скорее, чем прежде, когда она, бывало, по целым часам бесцельно глядела на грязную улицу и, зевая, низала свой бисер. Сначала она только дома держала Анну около себя, а потом стала и уходя куда-нибудь брать ее с собой. Вместе ходили они и в церковь, на богомолье, и в лавки за покупками, и в общественные сады на гулянья, и к знакомым в гости. Разные кумушки и приятельницы Аксиньи Ивановны удивлялись, что она держит, точно родную дочь какую-то нищую девчонку, подобранную на улице, но мало-помалу привыкли к этому и даже стали позволять своим дочкам вести знакомство с Анной.
«Постниковы богаты, – рассуждали они, – своих детей у них нет; кто знает: может, они все свое состояние оставят этой девчонке. Чего на свете не бывает?»
Анна никогда не думала о богатстве Постниковых, а еще менее о каком-то наследстве; вообще, вопросы о будущем не тревожили ее. В настоящем ей жилось хорошо, и она с детской беспечностью пользовалась этой жизнью. Не только Аксинья Ивановна, но и Андрей Кузьмич обращались с ней ласково и добродушно, и она очень скоро привыкла держать себя с ними, как своя, близкая. Она с полным убеждением говорила «наш дом», «наша лошадь», «наша лавка», отдавала приказания Федоту, свободно открывала все шкафы и сундуки, брала из чуланов лакомства для себя и своих гостей, не стесняясь просила у Андрея Кузьмича денег на покупку себе башмаков, платья или платочка.
В день именин Аксиньи Ивановны, когда при ней в первый раз открыли двери гостиных комнат и сняли чехлы с парадной мебели, она была так смущена представившимся ей великолепием, что весь вечер просидела в кухне с Аленой и только в щелку двери посматривала на гостей в праздничных нарядах. Но эта робость скоро исчезла. Когда, десять месяцев спустя, справлялись именины Андрея Кузьмича, она уже принимала деятельное участие в приготовлениях к торжеству, и затем, надев свое новое кашемировое платье, без малейшего стеснения уселась на диван, обитый шелковой материей, без малейшего стеснения встречала гостей и весело, оживленно болтала с молодыми девушками. Глядя на нее в эти минуты, можно было думать, что она родилась и выросла в настоящей обстановке, да и сама она, по-видимому, забывала, что она не дочь богатого купца Постникова, не молодая хозяйка в этой нарядной гостиной.
В числе гостей Андрея Кузьмича была старая, очень богатая тетка Аксиньи Ивановны. Она жила в соседнем городке и не более раза в год навещала племянницу. Не только Андрей Кузьмич с Аксиньей Ивановной, но и все гости относились к ней с особенным почтением, отчасти ради её богатства, отчасти и, пожалуй, главным образом, оттого, что она была женщина неглупая, правдивая и резкая в своих суждениях. Она знала почти всех присутствовавших еще детьми, и потому считала себя в праве всем говорить ты, всем высказывать прямо в глаза более или менее неприятные истины. Ей представили младших членов общества, с которыми она еще не была знакома; она каждому из них или сделала замечание, или прочла коротенькое наставление. Когда очередь дошла до Анны, пришлось рассказать всю историю девочки. Капитолина Матвеевна, – так звали старуху, – неодобрительно покачала головой, затем, обращаясь к Андрею Кузьмичу, спросила:
– Что же ты, батюшка, заместо дочери взял ее, что ли? Капитал на нее записал?
– Что вы, тетенька? Какие у нас капиталы? – испугался Андрей Кузьмич. – Дал бы Бог самим прожить! С чего мне свое добро чужим детям раздавать?
– То-то же! У тебя, я слыхала, родные есть, не в богатстве живут. Если лишнее что припас, так лучше своего племянника либо племянницу награди… А ты, – она обратилась к Аксинье Ивановне, – прямо сказать, глупа, мать моя. Коли ты призрела бедную сироту, так тебе не к нарядам, не к роскоши надо ее приучать, а к труду, к работе, чтобы она могла сама себе кусок хлеба заработать, не была бы в тягость другим. Вот она как расфрантилась, сидит наравне с нами со всеми, а случись, спаси Господи, завтра что-нибудь с тобой или с Андреем Кузьмичом, куда она денется? Нищенствовать, попрошайничать пойдет, или еще и того хуже…
Анна слышала от слова до слова все, что говорила старуха. Лицо её горело, руки дрожали, она с волнением ждала, что ответит Андрей Кузьмич, а особенно Аксинья Ивановна. Вот-вот они сейчас скажут, что все это неправда, что она может сидеть тут и веселиться, как другие девушки, что она теперь не нищая, не безродная сирота, она – их девочка, они ее любят, всегда будут любить и никогда не оставят… Но нет! Андрей Кузьмич, по-видимому, вполне согласен с старухой.
– Известное дело, не надо ее баловать, надо заставлять работать, и я то же говорю! – поддакивает он, а Аксинья Ивановна не находит ни слова в защиту себя и своей воспитанницы; она опустила голову и в смущении перебирает бахрому мантильи, точно уличенная в чем-нибудь худом. Анне хотелось в ту же минуту убежать, сбросить с себя красивое платье и запрятаться в кухню, к Алене, но потом ей пришло в голову, что старухе именно это и надо: она вспомнила свою старую привычку делать на зло и решила: «Нет, останусь здесь, буду нарочно и говорить, и смеяться, пусть она видит, что на её слова никто никакого внимания не обращает». На сердце девочки было тяжело, – так тяжело, что слезы готовы были ежеминутно брызнуть из глаз её, а между тем она без умолку болтала, хохотала, старалась держать себя как можно непринужденнее не только со своими ровесницами, но и со старшими гостями.
– Потише, Анюточка, чего ты так расшумелась? – несколько раз недовольным голосом замечал ей Андрей Кузьмич.
Многие из гостей неодобрительно покачивали головами, глядя на нее. Они слышали слова Капитолины Матвеевны и находили их вполне справедливыми, слышали ответ Андрея Кузьмича и сообразили, что раз Анна не приемная дочь, не наследница Постниковых, то она и не должна держать себя, как равная им, как подруга их дочерей.