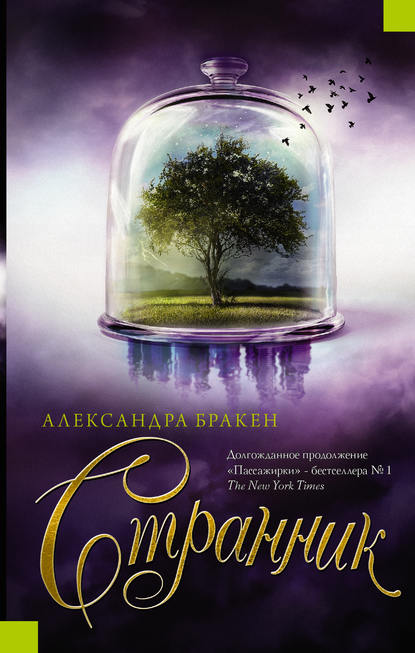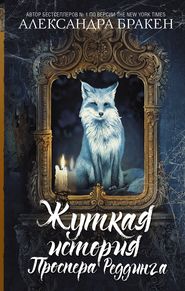По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николас пробежал несколько шагов, прикрывая глаза от хлещущих с неба струй. Вода катилась по грязи и булыжнику, отмывая, хотя бы на одну ночь, остров от грязи и нечистот.
Но вор исчез, а с ним – письмо Роуз.
– Картер! – София так и осталась стоять около таверны. Большая темная груда, прислоненная к ярко-выкрашенной стене, внезапно обрела очертания человека.
– Что за… – слова застряли у Николаса в горле, когда он подошел чуть ближе.
Страж Линденов осел у стены, уставившись в пространство невидящими глазами. Его кожа побелела и стала восковой, словно из него выкачали всю кровь. Сквозь дождь и мрак Николас не видел никаких повреждений: ни пулевого отверстия, ни порезов, ни следов удушения.
– Что случилось?
София опустилась на колени рядом с мертвым и повернула его голову набок, показав струйку крови, вытекающую из уха.
– Вон они!
Николас поднял голову к окну, где одна из девиц вывешивалась из окна, указывая на них. Несколько мужчин рядом с ней, увидев их, бросились на лестницу, спеша к выходу из таверны.
– Пора убираться.
– Не буду спорить, – кивнула София и рванула вперед, увлекая их в ночную бурю.
Сан-Франциско
1906
3
Этта ощупью пробиралась по границе своих сновидений, мягко убаюкиваемая волнами памяти.
Плавная качка внезапно сменилась еще более нежными толчками, вторящими ее пульсу. Вокруг в тусклом сиянии свечей кружились лица, шепча, поглаживая шершавыми руками ее покрытую ссадинами кожу. Она потянулась обратно, к прохладному шелку в тени своего разума, в поисках другого источника света, который помнила: луну над бликующей водой.
Он нашел ее первым, как всегда, увидев с другого конца корабля. Та ее часть, что потускнела от потери, снова засияла, заливая светом боль и страхи, пока не осталось ничего, кроме его лица. Волны накатывали в том же ритме, то вознося их вверх, то кидая вниз, а они шаг за шагом шли навстречу друг другу.
И вдруг он – рядом с нею, она в кольце его рук, вжимает лицо в складки грубой парусиновой рубахи, вдыхает источаемый им запах моря, а ее руки скользят по его мускулистой спине, впитывая знакомое тепло. Здесь, здесь, здесь, – не одна, больше не одинока. Бесхитростность чувства прорастала в ее груди, расцветая картинами будущего, о котором она мечтала. Жесткая щетина коснулась ее щеки, его губы щекотали ей ухо, но Этта не слышала ни слова, как бы ни цеплялась за него, как бы ни прижимала к себе.
Мир за ее веками снова изменился, вернулись тени – ровно настолько, чтобы она могла разглядеть вокруг и других, увидеть изгиб туннеля метро. Звуки скрипки плыли по воздуху, и она поймала себя на том, что покачивается в такт музыке; она медленно кружится с ним по бесконечной орбите, обхватывает его руку, поглаживая сильные вены и сухожилия, творит мелодию из его пульса, мышц и костей. Стены содрогнулись, грохнули, заревели, и Этта подумала, поднимая взгляд, пытаясь разглядеть его лицо: «Пусть ревут, пусть рухнут к чертовой матери!».
Он склонил голову и попятился. Она пыталась остановить его, схватить за рукав, удержать пальцы, но он исчез, словно теплый бриз, оставив ее одну, низвергнутую и брошенную.
«Не оставляй меня, – подумала она, чувствуя, как уходит тяжесть, переполняющая все тело, и возвращаясь в себя, дрожа от страха, – только не сейчас…».
Николас ответил ей со смехом: «А нынче «С добрым утром!» говорим мы душам, в страхе…»
Этта открыла глаза.
По крайней мере, ее вены больше не горели огнем, как в пустыне. Но она чувствовала себя такой же бесплотной, как пылинки, танцующие вокруг мигающей свечи на прикроватном столике. Она не шевелилась, стараясь дышать ровно, пока оглядывала комнату из-под низко опущенных ресниц.
Прямо у изножья кровати, в кресле, сидел человек.
Этта успела поймать чуть не вырвавшийся вскрик. С кровати ей была видна только макушка густых темных волос. Свет свечи выхватил несколько серебристых прядок. На нем была простая рубашка и свободные брюки, смятые неудобной позой. Одна рука с зажатым между пальцами галстуком-бабочкой держала на коленях раскрытую книгу, другая – свешивалась к полу. Грудь спящего размеренно поднималась и опускалась.
Неприятную мысль, что за нею наблюдали, пока она спала, не в силах ничего сделать, быстро вытеснило осознание, сколь небрежно караульный относился к своим обязанностям.
Порыв ветра высушил слезы и пот на ее лице, встопорщил воротник его рубашки – окно за длинными плюшевыми шторами карминового цвета было открыто.
Медленно, стараясь не издать ни звука, Этта переменила позу, закусив губу от боли, пронзившей ее от макушки до пальцев ног. Глазами быстро обежала комнату: красивый письменный столик у стены, оклеенной обоями с цветочным рисунком, рядом бюро – такое большое, что, казалось, вся комната была построена вокруг него. И столик, и бюро были сработаны из того же полированного дерева, что и ее кровать; по углам, сплетаясь друг с другом, тянулись лианы.
Прекрасная позолоченная тюрьма, не поспоришь. Однако нужно как можно скорее найти выход.
Комнату освещало несколько свечей: на столике, на бюро, на стене около двери. Благодаря неверному свету она смогла увидеть свое отражение в запыленном зеркале; правда, изображение разбивалось огромной трещиной и искажалось неровным стеклом.
О Боже!
Этта протерла глаза и снова недоверчиво рассмотрела себя. Она знала, что в Дамаске ее бледная кожа набрала цвета, но теперь лицо шелушилось от солнечного ожога. Грязные волосы ей заплели в косу, открыв ввалившиеся щеки и синяки. Выглядела она больной, если не хуже. Если бы ей не вымыли лицо и руки, она бы подумала, что ее протащили за такси по Таймс-сквер. И не раз.
Однако, пожалуй, хуже всего было то, что кто-то, пока она спала, снял с нее всю одежду, надев длинную, до пят, ночную рубашку, чопорно завязанную отвратительно-розовой лентой под самое горло. Этта надеялась, что это был тот же человек, который позаботился перевязать ей плечо и вообще как мог привел ее в порядок. И все же ее передернуло от собственной беспомощности.
Не в силах больше игнорировать жгучую боль, Этта переключилась на левое плечо, и, стиснув зубы, сорвала вызывающую зуд повязку. Слезы брызнули из глаз, когда она дернула ткань, приставшую к липкой коже вокруг заживающей раны.
Смотрелась она отвратительно: неприятно-розовое – цвета не глянцевой новой кожи, а сильного ожога – неровное вздутое пятно. У Этты перехватило дыхание, она заставила себя вдохнуть и отвести глаза в сторону спящего караульного.
Пошли, Спенсер. Сначала беги, а думать будешь потом.
Уверившись, что ее не вырвет от малейшего движения, Этта спустила ноги с кровати, опираясь пальцами о пыльный восточный ковер. Стоило ей только попробовать устоять на своих двоих, как за дверью раздались быстрые шаги.
Этта бросилась на четвереньки, от чего в глазах потемнело чуть не до обморока, и съежилась за кроватью.
– … надо достать…
– … попробуй ему это скажи…
Голоса стихли так же быстро, как и налетели, но легкий шум в ушах остался – Этта не сразу поняла, что снизу доносились искаженные обрывки музыки. Послышался звон бокалов и громкие голоса, вскипевшие пеной, словно шампанское.
– Поднимем бокалы!
– Тост!
Страх смел остатки замешательства.
«Кажется, мистер Айронвуд, удача еще не окончательно вас покинула».
И Николас, и София предупреждали ее, что у Сайруса Айронвуда полно стражей, стерегущих каждый проход. Она не узнала говорившего, но это было не важно – одного слова, одного этого имени было достаточно, чтобы понять: дела плохи.
Но и эту мысль поглотил другой страх.
Где Николас?
От тех последних мгновений в гробнице память сохранила только обрывки. Этта помнила боль, кровь, ужас на лице Николаса, а потом…