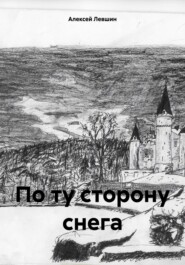По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ягодное поле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И неверие в голосе, и зачарованность, и любопытство – точь-в-точь, как у моей бабушки.
Дождь – проливенный.
«Бог ты мой! Ведь все как было… Вот здесь ветер гулял. Здесь мальчишки, прицепив веревку за паникадило – это, знаешь, Боже, у нас такая большая люстра – раскачивались.»
– А потом священник помер, отец Стефан. От инсульта. В алтаре с ним случился. У нас тогда было восемь градусов, прости Господи.
«Ты слышишь, Господи, прости ты нас…»
– Священники причащались, так губы к чаше примерзали.
У входа таз серый, дачный, с латунным кранчиком – и мама с дочкой в плаще:
– А вода у вас освященная?
Служительница им:
– Когда нет, вот у нас табличка – и протянула мне или им табличку – кому, не знаю:
«Святая вода кончилась».
– А то приходят, бывает, руки по локоть в таз! Но я знаю, что осуждать нельзя, плохо – это осуждать. Не судите….
– И не судимы… – вольно и невольно отвечаю я.
Женщины смотрят еще растерянно – это значит, что еще весна не пришла в мир. Хотя кругом август. Смотрят на меня смутно.
У женщин взгляды еще пока беззащитны. Смотрят на меня и мельком выискивают у меня в глазах как будто землю для опоры. В данном случае подходит пятый троллейбус. Пройдет года три – и она вырастит без моей помощи… сына.
Троллейбусные провода оставили мокрый чернильный след в воздухе. Всего-навсего размазанная по щеке тушь – от слез.
Троллейбус чмокает проспект в мокрую щеку. На углу Пятой Советской старый заброшенный канцелярский дом – из разряда сберкасс – хотя ближайшая сберкасса аж через две Советских. На углу одной из них мужчина в шляпе и красных носках пытается встать, но безуспешно.
У Технологического Института мама мне сказала:
– Найди рубль, дай бабушке. Я дал. – Я люблю таким подавать, – мама говорит так, будто укутывается в шарф. – ОНИ НАСТОЯЩИЕ. – Стоит такая чистая, аккуратненькая.
И вот опять – сон поворачивается на оси, сон воспоминания – мы пришли в Троицкий собор. В будущем приделе Св. Марии Магдалины позолота на иконах такая свежая, будто здесь прошел дождь и позолотил деревянную листву.
– А когда здесь еще начинали служить, голуби влетали. До алтаря, – говорит женщина с пожилым от забот лицом. – Все было нараспашку.
ВЫЕЗД НАДОЛГО
I mean it must be high or low.
John Lennon. Strawberry fields
They have their exits and their entrances.
Shakespeare. As you like it
Обычно мы запоминаем какое-то место в городе, угол, который полюбится позже и будет в памяти всплывать без самовнушения, или подъезд, потому что либо возле целовались, либо же получили по морде. По морде я получил на Ковенском, у дома номер 6. Все остальные места в Питере я вспоминаю по принципу, целовался я здесь или нет, или, в крайнем случае, кого куда из девушек провожал, и на каком углу хотел поцеловать и не получилось. Не целовался я в Некрасовском садике и на Финбане, да много еще есть мест… Кстати, по морде чуть не получили мы все строем на углу Чайковского и Потемкинской. Там я тоже не целовался, зато приходил туда и уходил оттуда с друзьями. Или один. Ну, конечно, это совсем другой, совсем другой адрес… Троллейбусы пороли горячку еще потом столько лет, останавливаясь напротив у решетки Таврического сада, чего дедушка уже из окна никак не мог видеть. Разве только другим небесным способом…
Белая краска
Рассказ не про нас
Он лучше слушает ее с перехваченным горлом.
Неужели мне никогда не казалось – я сейчас явно прощупываю то, что прощупать невозможно, чего наполовину нет, закоулки души, куда память не заглядывает – вот что я тогдашний, себе теперешнему уже чужой. Это ко мне настоящему с неизвестного расстояния добегает отбрасываемая тень, у самых подошв сливающаяся с асфальтом. И тогда получается, что все, что остается мне от моей тогдашней жизни – это ты и твоя жизнь, которая разрастается во мне уходящим вглубь буйным, счастливо непонятным мне детством, которое я должен отыскивать теперь уже в глубине себя: лизнуть неведомую мне царапину, которая у тебя не такая, как у меня, и я долго буду помнить эту решетку, с которой ты сорвалась и блеск девчоночьей быстро заживающей кожи, скользкие мостки, на которых из-за твоей невиноватой вины упала бабушка, – словом, все то, что я не видел и чем не жил. Там же во мне и твоя Лиговка-гармошка дворов – и из-за того, что ты живешь в глубине второго двора, я начинаю любить и эту облезлую глубину, напоминающую мне, что в детстве семимильный сапог казался мне размером с дорогу, и я был уверен, что Оксана Р., рассказывая мне мимоходом про то, что кто-то по неотложной надобности надел семимильные сапоги, знает, как и я, что они размером с эту комаровскую дорогу до залива, которая и укладывается в семь миль.
Вот и получается, что твоя жизнь дарит мне таинственное ощущение родства, будто утерянное мной, когда я вспоминаю свою жизнь. Это, наверное, какой-то пылкий этап самоисключения и впадания в твою жизнь, и вот, когда я срастусь с ней…
То уж во всяком случае – так говорят обиженные недалекие герои и в чем-то обманутые взрослыми дети – другим детям – теперь лишь мне стало понятно, зачем я ношу в себе с детства и болезненно отстаиваю столько неприемлемых мной мест в Питере и просто домов и зачем я так долго с ними носился, не находя им никакого выхода и воплощения. Вот зачем: многие из этих мест оказались потом временно обжитыми тобой. Но тебе они были не нужны. Обживаем же мы иногда и пустые, и чужие места.
Когда мы с бабушкой ехали в лесопарк на лыжное воскресенье, в трамвайное полусонное окно упорно пялилась одна и та же нескончаемая новостройка, называлось все это «Ржевка», и я ее до тошноты не любил, хоть иногда дома и отступали о трамвайной линии, прорытой как будто по направлению к какому-то серому северному поселку, на котором город обрывается… Ты жила потом в этой новостройке – именно в той, которая глядела мне в окно в эти скучноватые воскресенья – именно в той самой бесконечной новостройке.
Я потом придумал про нее рассказ, когда уже нутром чувствовал нашу встречу, и растянутость некоторых событий вдруг сменялась быстрыми и яркими провалами, как будто съедавшими время, остающееся до нашей встречи.
Рассказ был в духе современной закортасаренной литературы – о человеке, сидящем в непонятной чужой комнате, непонятно зачем ему доставшейся, где был чужой полированный шкаф – ни разу в жизни у него не было такого шкафа! – и занавески, смутно похожие на занавески на дне рождении девочки Юли, где он был всего один раз в детстве, такие опрятно-бездушные и теперь уже навсегда прищемленные длинной цепью новостроек, будто у всех там такие занавески и иначе быть не может. Этот человек испытывал самое неизлечимое, безрассудное отчаяние. Отчаяние росло, и по мере того он сам распылялся на тысячи мелькающих пылинок, и непонятно было, кто же за него думает, или как же это пылинки врассыпную ухитряются думать одну цельную мысль – читателю становилось понятно, если вообще только здесь был к месту читатель, что это отчаяние переживаю я, а вовсе не мой герой – он вынужден отражать ненужные ему чувства, отыгрывать их, как отдачу от выстрелившего ружья – и читатель это, скорее, он и есть.
Тяжелым и увязшим предметом в этом обыкновенном летальном бреду был шкаф, и непонятно было, где он стоит, снаружи или в квартире, или, может, он сам погибал в шкафу, запертый в нем в запертой и неизвестно чьей квартире. Как ты понимаешь, страшный, а главное страшно-неудачный рассказ. Кто-нибудь за это время уже наверняка написал этот рассказ, и это потому, что ужасы, которые мы запираем в ящиках, а у меня он давно лежал в ящике не помню где, просачиваются оттуда и приходят в голову любому чуткому автору.
Но остался от этого рассказа шкаф. Ты ведь так и прожила лет шесть в этом большом бетонном шкафу, в этой настырной новостройке, которую я носил в себе столько лет, как иные камень в почках – обложенная чужими, кропотливыми запахами, ты себя уговаривала, что там уютно, закрывая глаза и зажимая рот своему детскому страху, который кричал о том, как в детстве ты боялась остаться в таком доме, а жить в нем было тогда вообще невозможно. Люди, жившие во всех этих новостройках, были все заколдованы. А иначе быть не может.
(Что я делаю, когда я пишу? Иногда просто пытаюсь разыскать название рассказа, взятого как самое яркое из прожитых ощущений, название, кружащее над изголовьем кровати, хотя я в то время наверняка не сплю и даже очень далеко от этой самой кровати; в таком странном и веселом волнении я перемахиваю через первую страницу и попадаю на вторую. Я никогда не знаю заранее, что поселится или проглянет на этой странице: иногда целый квартал, иногда просто будет каркать ворона, и ее карканье как бы нарисует в воздухе страшно-осязаемый клок пустыря, с одуванчиковой щетиной, старую стену бывшего Смольного монастыря, ну и, конечно, запах этой сырой земли, которая пахнет тем, что в ней растет. И еще: в прозе все начинает двигаться, ничто не стоит на месте, даже дома.)
Страдание было выращено им самим безрассудно и тайно, как будто для того, чтобы он был готов принять пышную нелегкость ее жизни – неужели кому-то достаются любимые с приглаженно-пелеринной жизнью? Для того, чтобы он был готов к тому, что она свои существованием рядом и каждым простым жестом будет учить его чему-то, чему он, не зная, так хотел научиться. Сейчас они сидят и пьют чай, потому что он с тех пор приучает ее к чаю. Так часто пился кофе за последние годы, и от этого нервный запах кофе наскоро, по-конторски диктует видение: она быстрым и вытягивающим тротуар шагом спешит на тогдашнюю работу, все вокруг пахнет хорошо сваренным кофе и неприкаянными тополями, и у нее опять каблуки… Они пьют чай, и он не может просто так пить чай. Ему надо ощупывать ее ускользающее тело в том времени, тогда, когда он ее не знал, и наконец почувствовать, хотя она тут же рядом с ним сидит, как он берет ее там, в несуществующем прошлом – за руку, и это так же ясно и легко обжигает руку, как и теперь. Он берет ее за руку. Отсюда это как будто внезапно потемневшее небо от пришедшей грозы. Так они жили почти весь первый год. Он любил ее жизнь, мучился ею и 365 раз в году восстанавливал какие-то узнанные им с болезненной нежностью дни, создавая свою копию ее жизни, пахнущей по-разному, но одинаково приводящей к ней сейчас, идущей, спящей, молчащей, сидящей рядом.
Оторвемся от них на некоторое время. У них все проще, потому что они герои. Слава Богу, они поженились. У нас с тобой нет той ограничительной планки, которую играет в рассказе фраза, и у нас, как всегда в жизни, все существует одновременно: детство, печная заслонка, которую надо не забыть выдвинуть, и запах твоего тела, сливающийся с размерами горы, которую я сейчас вижу в окно.
Монологи к чему-то приводят
На него опять нахлынула магия поездов.
И он опять схватился за карман, из чего получился жест сердечника, который ищет лекарство, туманно сжавшие карман пальцы писали умоляющую просьбу «Лишь бы никто не звонил», она ведь все равно не позвонит…
Я никогда не видел тебя в шапке с ушами, в меховой шапке с ушами, которая шевелится, когда ты на нее дуешь. Наверное, ты такие давно не носишь, потом, ты любишь немного щеголять – капюшоны или просто открытая голова – перебежала до работы, подъехала на любом частнике – или замотанный шарф, широкий, такие шарфы носили все балерины и актрисы тогда в 80-х – а потом я все-таки так мало видел тебя зимой в России…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: