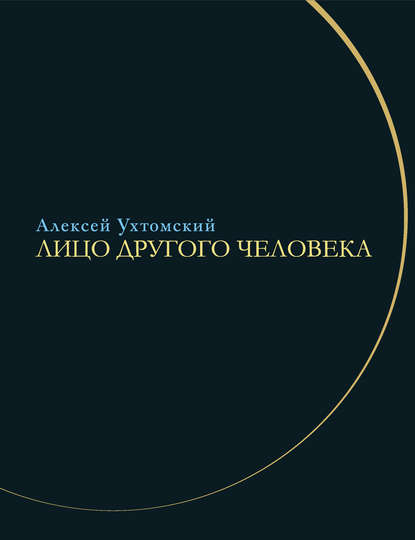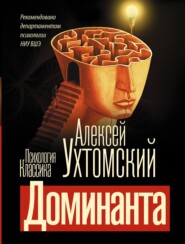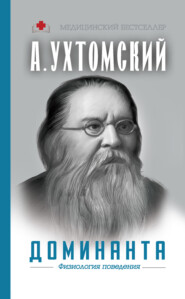По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Летом 1914 года в Россию из Европы ворвалась война и провела в истории страны роковую межу, став предвестником великой русской смуты.
Свободно ориентируясь в пространстве мировой истории, Ухтомский безошибочно уловил глобальный масштаб случившегося. Ключевым мотивом развязанной войны он посчитал международную борьбу с «немецким цезаризмом». Нападение Европы на Вильгельма представлялось ему «атакой демократически-революционной стихии европейской подпочвы на последнюю скалу и оплот чистого монархизма». Хорошо это или дурно, опасно или радостно, он предпочитал не комментировать, но намекал приверженцам монархии российской: разве они не понимают, что всякий их удар по Вильгельму есть удар по собственному фундаменту? Будучи убежден – революционная стихия, воспрянув в Германии, разольется по всей Европе и не минует Россию.
«Читая речи по поводу войны, сказанные западными государственными людьми, общественными деятелями и социалистическими вождями, – писал Алексей Алексеевич Варваре Александровне 30 августа 1914 года, – я вижу все яснее и яснее, что мое чутье меня не обманывает: и радикальный британский министр Черчилль, и русский революционер Плеханов, и главы французского социализма, демократии и рабочие партии Европы, они так единодушны и героичны в своей борьбе против вильгельмовщины именно оттого, что они чувствуют одну и ту же основную идею этой борьбы: атаку последней твердыни старого европейского абсолютизма. С этой стороны теперешние военные события – это лишь прелюдия огромных событий, назревающих в европейской социальной жизни!»
Ухтомский апеллировал к Варваре Александровне, сетуя, что подобные предположения не вызывают отклика у ближайших знакомых, в том же Никольском приходе, никто не осмеливается видеть дальше собственного носа, и он не считает нужным прилюдно высказываться о войне. От нее же, от проверенного своего друга, он, как обычно, ждал понимания и просил отозваться на его «мысли и предчувствия».
Она, в свою очередь, скорее по привычке, соглашалась с ним, не вникая в историческую суть происходящего. Варвара Александровна была захвачена патриотическим подъемом и писала, что война вызвала у нее потребность «забыть свое личное дело, отойти от него и раствориться в общем, не знать, не считать себя отдельно, а частицей всего большого народного тела». Она и Алексея Алексеевича побуждала не остаться равнодушным к всенародному горю.
На каникулярные август и сентябрь 1914 года Ухтомский по обыкновению уехал в Рыбинск, отдыхал в родном углу от «питерского обалдения». В семейном архиве он перебирал старинные бумаги, портреты, давние заметки и заново переживал глубокую связь «со своими отошедшими родичами и дедами, защищавшими Святую Русь на поле брани еще в Куликовскую битву». Среди бумаг отыскалось и его письмо к тете Анне Николаевне, написанное в 1889 году, четверть века назад, где он тогда уже оповещал о скорой войне с Германией, такие настроения витали у них в кадетском корпусе. Тайное убеждение, что война с Германией неизбежна, бродило по России, и лишь «твердый и спокойный авторитет» любимого Ухтомским Александра III пресек в тот час воинственные выходки Вильгельма.
Ныне же, считал Ухтомский, когда «тяжкое столкновение с немецким миром» обернулось кровавой явью, следовало молиться, чтобы война была понята не близоруко и исполнена по-народному «А для этого, – писал он Варваре Александровне в сентябре 1914 года, – надо сознавать с совершенной ясностью, что враг наш германец так ужасно пал нравственно не от того, что он „не культурен“!.. Национальные черты германизма достаточно велики и добры, если из них могли вылиться такие немецкие натуры, как Шеллинг, Шлейермахер, Гёте, Шиллер и пр. О недостатке „культурности“ немцев даже смешно говорить, особенно нашему русачку!»
Ухтомский утверждал: немцы стали жертвой того господствующего понимания «цивилизации» и «культуры», согласно которому весь прогресс сводится к удобствам городской жизни обывателя. «Это культура авиации, мотоциклетов, спорта, промышленности, комфорта, ватерклозетов, усовершенствованной хирургии, новейших мод, новейшего лечения сифилиса и т. п. и т. п., одним словом, культура исключительно материального человеческого быта при очень последовательном, систематическом игнорировании христианского понимания культуры и прогресса как великого нравственного труда личности над собой». Здесь он видел корень всемирного зла, поражающего людей и саму природу с приходом XX века.
Не только немец, забывший о старопротестантской церковности, но человек любой национальности обрекает себя на беспросветное одичание, пренебрегая Божественными стимулами в угоду житейскому благополучию. И потому, призывал Ухтомский: «Не осуждать надо немцев, не ненавидеть их, не поражаться неожиданной их дикости, а надлежит горько подумать: уж если с немцами, при вековой и огромной культуре их, возможно было такое поразительное одичание, то и тем паче со мною случится оно и тем скорее одичаю духовно я, если заболею тою же болезнью „материальной цивилизации“ без Христа! А признаки такой болезни, – не сомневался Ухтомский, – в русском обществе ведь уже есть!»
Духовное одичание, заставшее врасплох европейского человека в дни войны, последствия безоглядного нравственного падения – вот что сильнее всего волновало и возмущало Ухтомского, и в письмах к Платоновой, начиная с 1914 года, он под разными предлогами возвращался к анализу общественных умонастроений, поднимаясь и над казенным патриотизмом толпы, и, кажется, над самой Историей.
Ухтомский проникался вечной трагедией людского бытия, скорбел о грешной христианской душе и не мог уйти от вопроса: как бороться человеку со стихией ада и смерти? Ведь уже в древности бытовали одинаково легковерные рецепты: «перестаньте думать о смерти», «развлекитесь», «относитесь полегче», вереница «глаголемых мудрецов» от Эпикура до Мечникова мнила на таком пути «победить жало смерти». Но Христос, с его «обостренным подвигом сердца», звал не забывать о человеческой печали, одолевать нечувствие как следствие греха в себе. И если по этому зову «расширить свое сердце», то во всяком положении и при всякой степени довольства, наставлял Алексей Алексеевич Варвару Александровну, человек будет ощущать, что вот рядом с ним за перегородкой «сгорают дети, не успевшие разглядеть света», исчезают прочные «человеческие гнезда». А безучастный наблюдатель жизни – «тлеет в похотях прелестных», как выразился апостол Павел.
Обычно, когда Ухтомский приезжал в родные рыбинские края, – а в 1915-м и 1916 годах он снова проводил там летние месяцы, – у него просыпалось недовольство Петербургом, «мрачным и грязным, мокрым и болеющим городом», где он не переставал чувствовать себя блудным сыном. Он сокрушался, что в питерском быту и климате он «гладом тает и не насыщается», что город этот унесет его силы и здоровье до срока.
Да, Петербург угнетал Ухтомского, – и не только климатом, но нарочитой ориентацией на Западную Европу, духом скепсиса и аморальностью, прагматизмом и бессердечием «каннибальской общественности». Ухтомский прямо заявлял: «Иногда кажется, что продал я духовное старешенство за питерскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку…» И все же, почему-то именно сюда, в столичный Университет, направился он после Духовной академии, здесь отыскал свою «келью с математикой» и свой единоверческий приход. В этом нелюбимом и раздражавшем его городе, который он до самой смерти так и не покинул, осуществилась его блестящая карьера ученого, создавшего вслед за И. М. Сеченовым и Н. Е. Введенским оригинальную школу в отечественной физиологии.
Недовольство Ухтомского Петербургом не было мимолетным или напускным. Оно было искренним и постоянным. И за этим постоянством скрывался и действовал какой-то тайный механизм, какой-то духовный излучатель, вырабатывавший огромную творческую энергию, извлекая ее как раз из противостояния милых верхневолжских краев, где всегда можно «возобновить» чувство родины, и официозной имперской столицы, из противоположности теплой отчины и казенного, декоративного Петербурга. В их нестихающем борении, когда Ухтомский вглядывался в глубь себя, за их неизбывным конфликтом пряталось что-то неуловимо влиявшее и на его самоанализ, и на воспитание воли, и на понимание общественных реалий.
В 1896 году в статье «Психология русского раскола» В. В. Розанов писал: «Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определительно оканчивающимися, – „империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых не предвидим, начало безвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силою собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первою, Русь – взглянули Буслаев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого знания».
К последним, богато наделенный от природы даром внутреннего глубокого знания, принадлежал и старообрядец князь Ухтомский.
Петербург олицетворял Россию «правильных очертаний». Ухтомского же старинные родовые узы прочно связывали с Россией «живой крови, непочатой веры». Оба лика России слились в истории как сиамские близнецы, и уродливое их взаимопроникновение ничего не обещало в будущем. Подняв страну на дыбы, царь Петр нарушил предание святой, патриархальной Руси, отверг ее идеалы, попрал существо в угоду видимости, и, может быть, здесь коренится причина неприятия Ухтомским Петрова детища, Санкт-Петербурга, обреченного на дорогую расплату за выморочную, греховную жизнь.
Ухтомский признавался Варваре Александровне: «Нутро мое предчувствует многие беды», – и сам пугался своих прозрений, звучавших диссонансом в благонамеренном обществе. «Мне лично, – писал он из Рыбинска в 1915 году, – ужасно тяжело за наш народ, за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой, но мне не тяжело за общество, за все эти „правящие классы“ и „интеллигенцию“, которым по делам и мука». Ему претила нелепая иллюзия «боевой интеллигенции» обратить народ в «свою веру», вызывала гнев самонадеянность «благородных» граждан, уповавших на всемирный «прогресс».
Слава Богу, писал Ухтомский, «долго-долго внутреннее чутье русского народа, – здоровое чутье простых и немудрящих, но верных отеческому благочестию людей, – ограждало и остерегало от барских затей». Поминая недобрым словом «поганцев-декабристов» и затеянную ими «прелюдию интеллигентской смуты на Руси», он не находил никакого оправдания сеющим рознь «мутным душам», умствующим революционным смутьянам, которых немало наберется в русской истории. Народная душа, знал Ухтомский, взыскует высшего Разума, жаждет божественной справедливости и не хочет мириться с близорукостью тех, кто, вещая о благих целях, не ведает, что творит.
Ухтомского настораживал «нравственный дальтонизм» так называемых «культурных деятелей», способных из чувства социального эгоизма легко впадать «в поножовщину под видом честного дела».
«Русскому обществу грозит великая, тяжкая беда! – писал он Варваре Александровне в октябре того же года. – Не нужно быть слишком проницательным, чтобы это видеть… И очевидно, что есть резон для того, чтобы не было нам покоя, ибо в покое современное „культурное“ общество уже окончательно отдает гнилью, тогда как при историческом горении и кипении, которое мы переживаем, по крайней мере гниль-то отбивается! Впрочем, этот исторический суд так страшен, что пока лучше нам не допускать и речей и в преддверии его лишь молиться…»
Варвара Александровна послушно внимала рассуждениям Алексея Алексеевича, вряд ли так постигая их провиденциальный смысл. Социально-исторические проблемы, волновавшие Ухтомского, тот взгляд на мир, какого он придерживался, претензии к интеллигенции и Церкви, сетования по поводу российских нравов и порядков, – все это трогало ее, так как исходило от него, и Варвара Александровна хорошо усвоила свою роль отзывчивого слушателя.
Ухтомский читал в Рыбинске святых отцов и думал о Страшном Суде, признаки которого зримо обозначились: «мир в нечестии своем упорно стоял», «дети жили на счет отцов и настолько, насколько умирали отцы», одно поколение безжалостно съедало другое, мир более не обещал ничего нового, и такому миру, не дающему плода, суждено было с неизбежностью погибнуть.
Варваре Александровне он писал: «Я жду многих и тяжелых бедствий. И нас, вероятно, не минет чаша наказания Божия, ибо те, кто пострадал уже и пролил кровь свою, были не хуже нас, а может быть, и лучше нас. Пришел час воли Божией и надо, чтобы человек, после гордыни и покоя, которым не виделось конца, понял во прахе своем, что он только „земля и пепел“, по слову древних отцов, великое время пришло, и еще придет, блестящее и яркое, как пламя!» Алексей Алексеевич признавался Варваре Александровне – в нем «что-то растет и бродит, и это подчас очень больно, так больно, что сказать нельзя», и крепнет уверенность – «охватывать жизнь как трагедию».
Мировая война потрясла Ухтомского. В нем обозначился резкий душевный надлом. Он жаловался Варваре Александровне, что его тяготит «укрепившаяся самость», «дебелая и тяжелая плоть» и в мирских условиях ему все затруднительнее «сохранять в чистоте острую восприимчивость действительности». «Нередко бывало, что придя к Вам в Петрограде, – писал он осенью 1916 года из Рыбинска, – я вдруг чувствовал, что было бы лучше, если я побывал у Вас, в Вашей комнатке, только духом и мыслью, ибо наличность моего тяжелого и инертного, материального Я только мешает и спутывает то, что живет в сердце и мысли!»
Епископ Андрей назойливо звал брата в монастырь и был недоволен до крайности «досадной девицей» Платоновой, которая препятствует Алексею Алексеевичу стать на стезю безропотного послушания Господу. Варвара Александровна же, несмотря ни на что, выказывала Андрею полное почтение.
Любопытно, что еще в мае 1912 года, сравнивая братьев, она записала в дневнике: «Андрей знает, что сеет, Алексей Алексеевич знает, что хочет собрать, когда же сеет, случается вообразить ему до того, что уверяет, что сеял пшеницу, а на самом деле была рожь… Андрей сразу определил себе дорогу и пошел по ней… У Алексея Алексеевича нет ни способности организатора, даже не способности, а устойчивости, нужной для организатора, ни таланта устроительства, он прежде всего мечтатель, философ, а потом уже как необходимость – деятель. Душа и ум у него вместе, душой он в церкви, умом в миру, таким в монастыре быть нельзя… Андрей чудная, яркая, прямая, как стрела, свеча перед иконой, горит она ровным светом и светло от нее не одной душе. Алексей же жжет свою с двух концов, она не прямая, а переломленная в середине, но она все-таки одна, и свет ее, если сольется воедино, прекрасен и силен, ярок, ярок будет! Горит же она, как и Андреева, для Бога».
Тревожные для Алексея Алексеевича месяцы они с Варварой Александровной перемогались вместе. Десять лет знакомства и невзгод не только сроднили и обручили их беспримерным доверием, эти десять лет сформировали личность Варвары Александровны, закалили ее характер и убедили Алексея Алексеевича, что он «угадал ее», что выбор, сделанный им в 1905 году, был перстом судьбы.
Осенью 1916 года Ухтомский адресовался к Варваре Александровне: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: „Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее…“ Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, „как скажет моя душа“. Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решать и уход на служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым…» И тут же добавлял: уйти из университета до конца войны не имеет морального права, это будет похоже на «бегство с поста в критическое время».
Университет он не покинул, а мысль о монастыре в тот момент, казалось бы, оставил. Однако тяжкий путь его духовного восхождения продолжался, его изначальное стремление к самоочищению крепло, и спустя несколько лет – в 1921 году, в обстоятельствах уже совсем иных, не менее беспросветных, – Алексей Алексеевич по некоторым сведениям все-таки тайно принял иночество с именем Алимпий, тем самым как бы окончательно узаконив столь желанное для него положение «монаха в миру».
5
Осенью 1917 года Ухтомский участвовал в заседаниях Всероссийского Поместного собора Православной церкви в Москве и в письме от 14 ноября спрашивал Варвару Александровну: «Как легло Вам на душу это последнее время с новым ленинским выступлением, с „переворотом“ и проч.?» Торопясь предупредить – для него в случившемся никаких неожиданностей нет: «…все это предрешено, и всему этому воистину „подобает быти“ еще с тех пор, – писал он, – как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу… Одним словом, исходные нити и корни заходят все дальше, и из этих корней роковой путь к тому ужасу, который переживается теперь и о котором надо сказать, что, переживая его лицом к лицу, мы еще и не отдаем себе полного отчета, до какой степени он ужасен!»
…В декабре 1917 года Алексей Алексеевич поехал в Рыбинск – встретить Рождество, но заболел, слег в постель и потом неспешно выздоравливал, со страхом представляя себе возвращение в Петроград. «Ехать, в особенности в Петроград, – писал он Варваре Александровне, – теперь очень трудно. Поезда идут безобразно, неправильно; стекла выбиты; места в вагонах забиты до крайности, так что приходится помещаться чуть ли не на площадках. Как поокрепну, выеду. Поджидаю еще себе попутчиков, которые могут оказаться в следующие дни. С ними будет, я думаю, полегче в толпе». Болезнь, однако, не отпускала, непредсказуемость событий не располагала к переездам, и в результате Ухтомский прожил в Рыбинске почти год.
Поправившись, он занялся в охотку физическим трудом. С мыслью, что в грозящий голодом год оставлять землю праздной нельзя, вскопал и засеял два десятка грядок картошкой и горохом; жалованье из университета он не брал, еще раньше деньги, какие тогда нашлись, истратил на облигации «военного займа и займа свободы» – по настоянию брата, от которого теперь из отрезанной чехословаками Уфы ничего не было слышно. Из Петрограда вестями тоже не баловали, и Алексей Алексеевич даже усомнился, не прекратилось ли всякое сообщение с этим городом и не уничтожаются ли письма «буржуев».
Письмам Варвары Александровны из Саратова, куда в июле 1918 года эвакуировали «отдел сборов» правления Рязанско-Уральской железной дороги, он несказанно обрадовался и в ответ рассказывал ей, что большевики близ Рыбинска готовились летом к боям, из Шексны в Волгу привели миноносцы, в городе заметно прибавилось матросов и армии. Обуянные «гордынными замыслами», большевики хлопотали о соблюдении каких-то «программ»: Ярославская губерния, видите ли, не была подведена под их «партийный шаблончик». Все их замыслы превращались в карикатуру – и она была бы «уморительно смешна, если бы не была ужасна».
Церковь в городе подвергалась унижению и погромам: монашек, с издевательствами, гнали из монастыря, священников грозились забрить в солдаты, появились слухи, что домовые иконы обложат особой податью и службу в храмах прекратят, а в октябре случилось совсем уж отвратительное «мероприятие», – в театр, на «грандиозный митинг», как именовалось это действо в газетном объявлении, собрали в принудительном порядке местное духовенство всех культов и партийные докладчики из Смольного принялись «разоблачать язву религии»…
Ухтомский тогда с наслаждением читал Григория Богослова и Иоанна Златоуста. «Особенно дорого, – делился он с Варварой Александровной, – побыть в стихии этих дорогих отцов именно теперь, когда разыгрывается такая мировая трагедия с необыкновенным значением, когда вздымается опять и опять гордыня Врага и Противника для искушения человечества, и мир испытывается оружием и огнем». У Григория Богослова он натолкнулся на вещие слова: «Боюсь, не есть ли настоящее уже днем ожидаемого огня, не вскоре ли после сего настанет антихрист и воспользуется нашими падениями и немощами, чтобы утвердить свое владычество…»
«Падения и немощи» кричали о себе, мир европейской цивилизации был взбудоражен и изнурен. «День ожидаемого огня» занимался над XX веком, возвещая неведомые доселе испытания и взывая к покаянию. Это была первая в наступившем столетии мировая трагедия – искушение человечества «оружием и огнем».
Окунувшись в омут событий 1917–1918 годов, Ухтомский постоянно втолковывал Варваре Александровне, что «для очей веры христианской» эти события ничуть не загадочны и «физиономия их ясна». «Христиане предупреждены относительно того, – писал он ей в январе 1918 года, – что имеет быть, и им не приходится ужасаться теми событиями, которые развертываются перед нами. Знаем о том, что должны быть гонительства и жесточайшие попытки истребления Христова наследия! Так что то, что кажется таким новым и небывалым для самих „творцов“ всех этих новейших дел, оказывается для нас древнейшим, давно предсказанным типом событий, свойственным всем тем эпохам, в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растление общества, но вместе с тем подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть яко бози».
Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и переживаемая Россией катастрофа воспринималась им как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая воочию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.
Ухтомский расшифровывал эти признаки: «Широкое разлитие легкомысленного неверия Христу в российском „интеллигентном“ обществе, все возраста-ющее растление и извращение душ и умов в разных „декаденщиках“, „теософиях“, „кубизмах“, „футуризмах“, растущее углубление разврата, появление Григориев Распутиных, ужасающий спрос на них и вообще на ложных пророков, развивающееся отсюда поругание церкви в соблазняющейся народной душе, затем ужасные войны, кровопролития, явно иссякающая любовь в людях, необыкновенно возрастающий спрос на ложь, возрастающая неспособность верить правде, наконец, явное одичание, возвращение к инстинктивной жизни древней обезьяны и свиньи, скрывавшееся до сих пор под культурной скурлупой, с таким трудом надстроенной за историю сознательной жизни человечества!»
Ухтомский не только усмотрел в революционной буре «гордыню древней злобы», стремление черни быть «яко бози», но, к величайшему огорчению, извлек из происходящего и нелестное мнение относительно некоторых черт русского характера.
В июле 1918 года в письме к Варваре Александровне он вспоминал, как они слушали когда-то «Град Китеж» Римского-Корсакова и его поразил образ Кутерьмы. «Не могу не сказать, – писал он теперь, – что тип Кутерьмы, губителя своих братьев и родины, – тип пророческий: Руси суждено пасть от такого безумного, свищущего и пляшущего безобразника, озорника и потерявшего в себе святое! С очень тяжелым и темным чувством вышел я тогда из театра, – душа предвещала, что Китежу надо повториться в близком будущем… Кутерьма, бесовская вьюга, кроющая небо (по великолепному стихотворению Пушкина), стадо свиней, сбесившееся и бросающееся в море, – вот образы того, что теперь совершается в России…»
Гневное настроение Ухтомского подогревалось и просочившейся в Рыбинск вестью о расстреле царской семьи. Если это правда, объяснял он Варваре Александровне, то «убиение несчастного Николая II» будет «тяжким, несмываемым пятном на русском народе и на России», и народу «еще придется поплатиться своею кровью сверх того, что заплачено до сих пор!»
Еще в Петрограде Ухтомского мучило «чувство страха пред улицей и пред собранием народа». Это чувство не ослабло и в Рыбинске. Все понятнее было ему состояние старообрядцев-странников, ощущавших реально, что «антихристом наполнена земля, осквернена вода, заражены поселения, загрязнен и сам воздух над ними!» И поэтому напрашивался рецепт: «в себе-то самом, прежде всего, сохранить силу и способность жертвовать благами общежительства», ибо, как предвещали древние отцы, «слабые души за кусок хлеба, за малые обещания материальных благ и покоя продадут свои души и веру».
Их переписка с Варварой Александровной несмотря ни на что продолжалась, хотя часть писем, вероятно, пропала, не сохранилась, другие отосланы в спешке, с неожиданно подвернувшейся оказией… Алексей Алексеевич стал в письмах душевнее, искреннее, участливее, а Варвара Александровна еще нежнее, еще упрямее в своем усердии поддержать друга в лихую годину. Она мучалась его заботами и советовала ему подольше оставаться в Рыбинске – там, думалось ей, и посытнее, и поспокойнее, чем в промозглом, свихнувшемся Петрограде, куда без риска теперь было и не добраться.
Варвара Александровна полностью соглашалась с тем, что главное в нынешних обстоятельствах – не уступать козням антихриста. «Сейчас больше, чем когда, – писала она, – видишь и чувствуешь, что человек раб, но хорошо, если он раб Божий, ужасно, если раб Его противника». Она смиренно принимала выпавшие ей на долю испытания и благодарила Алексея Алексеевича за все вместе с ним перенесенное и узнанное за годы их дружбы. Эти годы «почти непрерывной работы сердца и ума чего-нибудь да стоят!» – радовалась она и обращалась к Алексею Алексеевичу: «Кто же создал всю эту сложность, все мои думы, радости и горя, главным образом, 95 % по крайней мере, Вы, ну, значит, и спасибо Вам… Если бы не крест, не неугасимо светящий свет Распятого на нем, было бы, пожалуй, и иное, было бы зло, а от него спаси Господи всякого. Теперь же у меня есть открытый слух к церковному зову, я чувствую величину, чистоту и важность его для жизни, как единственно дающий силу, мужество и полноту. Я рада, что живу, рада, что через жизнь узнала жизнь».
Сама тональность их диалога стала иной, они будто поменялись ролями, и уже Алексей Алексеевич просил душевной милостыни, тратя «последний запас сил». Когда рушились все прочие опоры вокруг, надежным прибежищем оставалась выпестованная ими любовь, и Варвара Александровна сторицей воздавала своему строгому учителю за его старания, принимая на себя роль утешительницы.
Осенью 1919 года Варвара Александровна покинула Саратов и переехала в Москву, где поселилась на углу Тверской и Брюсова переулка, устроившись в какую-то контору делопроизводителем.
Что же до Алексея Алексеевича, то его 17 ноября 1920 года в Рыбинске арестовали, и он спустя год рассказывал Варваре Александровне в письме, как чуть было не стал жертвой тупой власти случая: «Очень я счастливо, по милости Божией, отделался! В сущности только стечение обстоятельств, маленькая бумажка из Петроградского совета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня еще в Рыбинске! Помню, как в „дежурке“ рыбинской Ч-Ки, в момент окончательного заарестования, солдат сказал мне: „Дело идет о жизни человека“, а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и затем обратился ко мне, как к предназначенной к убою скотине: „Ну, иди…“ Это он пока повел меня в подвал. Но он же потом, как слышно, кончает за углом, в саду, „приговоренных“ и там же зарывает, или ночью увозят их в больничную мертвецкую. Помню, что они были неприятно поражены, когда меня через несколько часов было решено отправить в Ярославль! Это был самый опасный момент!»