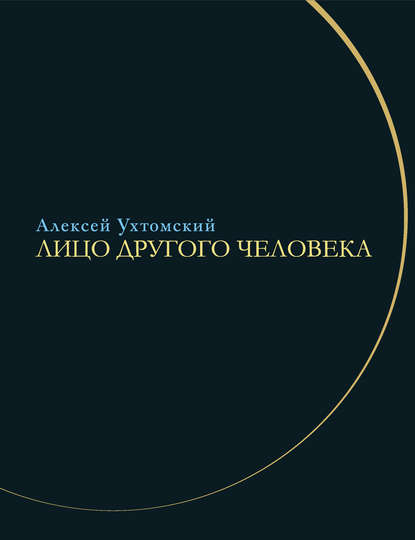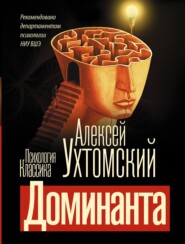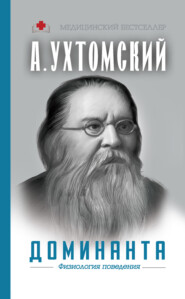По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
Г. М. Цурикова
Алексей Алексеевич Ухтомский
И. С. Кузьмичев
Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаенном мыслительстве» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Настоящий сборник, включающий дневниковые записи А. А. Ухтомского и его переписку, призван обратить внимание вдумчивого читателя на эту оригинальную интеллектуальную прозу.
Алексей Ухтомский
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
© И. С. Кузьмичев, составление, 2008
© И. С. Кузьмичев, Г. М. Цурикова, вступит. статья, 2008
© Издательство Ивана Лимбаха, 2008
© ИП Князев
* * *
Дальнее зрение
Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре XX века уникальное.
Физиолог с мировым именем, он отличался разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным видением многосложных нравственных, социальных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – подлинное откровение. Оно сохранилось, к великому сожалению, далеко не полностью и, кажется, по сей день еще не оценено в должной мере.
Ухтомский не был писателем, но с юных лет и до последних дней жизни испытывал «странную потребность» закреплять в слове напряженный процесс духовного самопознания. В литературном наследии Ухтомского нет художественных произведений, однако его письма можно рассматривать подчас и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. Дневниковые записи Ухтомского – нерегулярные, вроде бы случайные, разбросанные в рабочих тетрадях и на полях прочитанных книг, – самоценны и внутренне последовательны.
В сущности, оставленное Ухтомским литературное наследие – это самобытная интеллектуальная проза: ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, психологическая проницательность и вдобавок ко всему – «дальнее зрение», ощущение грозной поступи истории.
1
Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 года в пошехонском захолустье – в сельце Вослома Ярославской губернии, детство провел в Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Учился Ухтомский в городской классической гимназии, а тринадцати лет был отправлен в Нижний Новгород, в Кадетский корпус, который когда-то кончил его отец. Образование в корпусе давали недурное. Уже там он привык систематически штудировать труды по философии и увлекся математикой. В девятнадцать лет был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал, навсегда, впрочем, сохранив военную выправку.
Чрезвычайное обстоятельство окрасило его детство и юность. Несмышленым малышом Алешу Ухтомского выделили из родительской семьи и при здравствующих отце и матери препоручили одинокой сестре отца Анне Николаевне, тете Анне, женщине самоотверженно религиозной. Отношения с родителями, в первую очередь с матерью, – властной, деловой, меркантильно-ухватистой, – надломились. Тетя Анна до самой своей смерти в июне 1898 года, по сути, заменяла мальчику мать и оставалась для него не только «единственным в мире родным человеком», а и непререкаемым примером духовного самоустроения.
Азбуку он разбирал по житиям святых и древним священным книгам. Таинство молитвы, красота церковного богослужения пестовали восприимчивую душу мальчика. Воспитывал его тихий, заповедный мир верхневолжской старозаконной России с ее диковатой, нетронутой природой и упрямым, кержацким складом человеческой натуры. Личность слабая, безвольная, глядишь, потерялась бы в той и могучей, и убогой стихии. Ухтомский же, с малолетства приученный к самодисциплине, рано ощутивший связь с Богом, с Космосом ли, с Высшим Разумом, – выстоял, повинуясь неясной мелодии, уже тогда зазвучавшей в нем.
Внутренняя сосредоточенность пробудила интеллектуальную независимость, и работа мысли стала особенно интенсивной, когда из домашнего уюта он попал в казарму. Углубивший душевное одиночество перелом оказался дополнительным стимулом к познанию – и природы, и самого себя.
Годы обучения в Кадетском корпусе совпали для Ухтомского с тем странным возрастом кончающегося отрочества и начинающегося мужества, когда человек сталкивается с определяющим жизненным выбором, когда «волнение знания, любопытства, теоретизма» (В. Розанов) заставляло великие умы отворачиваться от шумных утех и прятаться в «монастырь философии», когда человек, доведя до предела темперамент в себе, испытывал «сладость отречения»: в молитве отрока-послушника либо во всяком воздержании ради устремления к добру, к идеалу христианского совершенства. Здесь – исток аскетизма Ухтомского, который он сам истолковывал как самоотрицание во имя идей, отказ от «приятного» из высших нравственных соображений. Не аскетизма по принуждению или подражанию, а того естественного аскетизма, когда, по словам В. Розанова, человек, и совлекши с себя плоть, любит мир именно во плоти, во всех его видах и формах, «излучаясь величайшей нежностью» ко всей природе.
Провидческая мелодия, с детства не смолкавшая в Ухтомском, на сей раз – как не однажды и в будущем! – подсказала выбор, и по окончании Кадетского корпуса он поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его еще больше заинтересовала неотделимая от религиозного сознания русская идеалистическая философия, признанным выразителем которой в России был тогда Владимир Соловьев.
Обращение к науке, к философии и вместе с тем – к Богу показательно для Ухтомского. Порог Духовной академии он переступил «уже вкусивший прелести мысли», полагая: «Раз начав думать, человек уже не должен „обращаться вспять“; он должен искать спасения в мысли же». Об этом, обозначая свои жизненные цели, писал и в дневнике в 1897 году: «…мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня».
Его влекла «анатомия человеческого духа до религии включительно», интриговали границы метафизики – те рубежи, «до которых мы можем научно думать». Избрав темой диссертации «космологическое доказательство бытия Божия», он посчитал верным придерживаться того же «способа и направления мысли, какой создал науку о природе». И при этом отстаивал принцип автономии науки, готовый оберегать ее «от нападений богословствующего разума».
Соотношение естественного и сверхъестественного с неизбежностью подводит науку к вопросу: как относиться ей к идее Бога? Какова связь между Природой и Богом, понятием столь же абсолютным? Ответ на этот кардинальный вопрос могло дать исследование религиозного опыта.
«В Духовной Академии, – вспоминал впоследствии Ухтомский, – у меня возникла мысль создать биологическую теорию религиозного опыта. При этом основою религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т. е. apriori предполагался и затем разыскивался биологически целесообразный момент богопочитания. Научная задача предвидела свое разрешение в том, чтобы благополучно найти этот физиологически утилитарный момент и схематизировать относительно него существующие материалы, характеризующие в истории религиозный опыт каких бы то ни было форм, эпох и людей».
Отличное обучение в Академии, основательный багаж в области истории и философии, литературная одаренность и талант говорить с кафедры сулили Ухтомскому завидные перспективы. Став магистром богословия, он получил предложение работать в архиве Московского Кремля, – но что-то его останавливало. «Задача моя, задача моей научной карьеры, – убеждал он себя в дневнике в августе 1899 года, – именно выяснить… психологическое существо „религиозной жизни“, т. е., попросту, величайшего из примирений с действительностью – христианства, где крепкий и смиренный сердцем Сильный и Большой всех зовет под кров свой, всех труждающихся и обремененных…»
Брат Александр, в монашестве Андрей, усиленно побуждал Алексея следовать его примеру либо избрать духовно-учебную службу, и чтобы решить вопрос: какая общественная функция наиболее отвечает его собственному предназначению, Ухтомскому потребовалось проявить волю.
Будучи уверен, что он «в отношении общественной жизни – лишь созерцатель», он перепроверял себя. «Мое поступление на духовно-учебную службу, – записывал в дневнике, – было бы понятно мне тогда, если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и умею сделать я. Но ничего такого, чего лучше меня не могут сделать мои товарищи по высшей школе, – в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием». И добавлял: «У меня есть причины не идти в монахи, и очень веские… Я не считаю себя в силах – идти в священники; да к тому я никогда не чувствовал никакой склонности…»
И все-таки после смерти Анны Николаевны, опечаленный горем, Ухтомский совершил пешее паломничество в Оптину пустынь, а потом подался в подмосковный Иосифо-Волоколамский монастырь и провел там полгода, воочию наблюдая тамошнюю сирую паству и убеждаясь, что монашеский постриг – никак не его предназначение.
«Дух веками создававшегося монастырского безделья подавляет меня, – записывал Ухтомский в дневнике. – Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать».
Размышляя о психологических причинах, побуждающих человека замыкаться в монастырских стенах, Ухтомский связывал эти причины, в частности, с тем, что человек может чувствовать свою неспособность справляться с житейскими тяготами и моральными страданиями, какие доставляет ему общество, и «предпочитает лучше сильно и глубоко, и „во всю мочь“ жить интенсивно, чем слабо, и разбросанно, и жалко жить экстенсивно».
При этом человек, избирающий для себя путь монашества, должен быть абсолютно честен перед собой в объяснении своего поведения, не испытывая досады или гнева на внешний мир. «Конечно, – и отцы понимали это лучше всего, – замечал Ухтомский, – искусственное ограничение жизни очень требует своего оправдания, но оправдание есть, если есть в глубинах сердца настоящее чувство, что ограничил жизнь, потому что не достоин ее и если бы не ограничил, дескать, было бы хуже». Стоит монаху утратить первоначальную уверенность и смиренную простоту, он, в понимании Ухтомского, «становится уже ниже человеческого достоинства, и – как выражались неоднократно отцы – демоном». Такой монах, «сидящий в келии своей с сомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами», такому монаху, по словам Антония Великого, «грозит эта жалкая, плачевная картина – стать оставленным людьми и праздным, разваленным домом, в котором только завывает ветер да живут совы…»
Ухтомский не утратил надежды «оправдать молитву из начал науки», найти правду и свет в «келье с математикой». Он чувствовал: грешно уходить от жизни в одинокое самоуслаждение духовными благами – и потому искал конкретного полезного дела и активного поприща. Ему по сердцу был деятельный аскетизм мирянина. Поведенческий статус «монаха в миру» лучше всего соответствовал его душевному составу. Во всяком случае, именно о таком статусе Ухтомский позже упоминал применительно к себе неоднократно.
Вызвав бурное негодование брата, иеромонаха Андрея, Ухтомский отправился поступать в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Однако лицам с духовным образованием сфера естественных наук официально была заказана, поэтому Ухтомский в 1899 году попадает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение.
В двадцать пять лет он опять с охотой сел на студенческую скамью, учился усердно и усидчиво и через два года утвердился ассистентом на кафедре физиологии животных, у профессора Николая Евгеньевича Введенского, который привлек Ухтомского не только фундаментальными идеями, не только тем, что был «упрямым искателем новых дорог» в физиологии, – но и всем своим обликом. Выходец из далекого вологодского села, Н. Е. Введенский, сын деревенского священника, был человеком скромным, неразговорчивым, по-крестьянски недоверчивым, жил замкнуто, без семьи, но сохранял душевную теплоту и отзывчивость к родственникам и преданным науке ученикам. С учениками и помощниками Н. Е. Введенский был строг, не терпел малейшего подтасовывания фактов в угоду абстрактным гипотезам и вместе с тем был снисходителен и «нравственно деликатен». Что-то духовно близкое уловил Ухтомский в своем учителе с самого начала их сотрудничества, – и в итоге не ошибся.
В эту пору Ухтомский познакомился с Варварой Александровной Платоновой.
2
Они встретились осенью 1905 года. Их переписка охватывает более трех с половиной десятилетий.
Она жила в родительской семье на 13-й линии Васильевского острова, на углу Большого проспекта. Он холостяком – недолго на Тучковой набережной, а потом еще ближе к ней, в казенной квартирке на 16-й линии: когда обосновался на кафедре физиологии. Там он так и прожил всю жизнь, даже академиком не изменив своей «вышке», своему «закуту», там и скончался в блокадном августе 1942 года.
В глухие, трагические времена два этих строгих и благочестивых человека исповедывались друг другу, и переписка их, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела удивительную историю их взаимоотношений – от светлого порыва к совместной жизни в молодости до драматических превратностей в дальнейшем и единения на почве религиозной, запечатлела потаенную хронику их любви – в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается дороже житейского счастья[1 - Подробнее об этом см.: Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника. СПб., 2000.].
Как-то в 1915 году Ухтомский объяснял Варваре Александровне: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться – оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собой! Но теперь мне не удается писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам… Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собой…»
Такая вот откровенность. И неслучайно письма, заменявшие ему дневник, Ухтомский просил не выбрасывать. В них он запечатлелся как доверчивый собеседник и как аскет, как трибун и как затворник, заботливый друг и человек до старости по-детски ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мелочной суеты и бесовской сутолоки ради «своей беседы с Высшим».
В письмах к Платоновой он почти не касался физиологической науки, для этого находились другие адресаты, их было немало. А Варвару Александровну не ахти как интересовала университетская среда и позже ничуть не смущало его солидное положение академика. Он всегда оставался для нее Алексеюшкой, родным, близким по духу, по вере и по судьбе. Она же – словно воплощала его собственную душу, и разговаривать с нею в письмах было ему – как дышать.
Переписка Ухтомского с Платоновой «переводима» на общедоступный язык лишь до известной степени. Их письма друг другу, во всей полифонии эмоциональных оттенков, намеков, скрытых смыслов, были до конца внятны им одним, и то, что на посторонний взгляд может показаться странным и вызвать недоумение, для них было нормально и объяснимо.
Письма двоих, – предназначенные только им самим. И любой, даже самый тактичный, читатель рискует оказаться непрошенным гостем в укромном духовном убежище. Читатель обычно пристрастен, будь он светским либо церковным человеком. Но осторожно прикасаясь к трепетной жизни, запечатленной в этих письмах, приблизиться к ее поучительной правде могут – и традиционно верующий мирянин, и ученый-натуралист, и забывший Бога незадачливый наследник того самого российского интеллигента, которому частенько адресовались гневные инвективы Ухтомского.
Модель поведения, им предложенная, отнюдь не универсальна, и у каждого, кто попробует применить ее к себе, неизбежно найдутся к нему претензии. Для канонически верующего православного – Ухтомский скорее всего вольнодумец. Для университетского коллеги-профессора – смелый парадоксалист, поставивший на себе небезопасный эксперимент одновременного служения и естественной науке, и Богу. А для всех, кто попросту способен задумываться над вечными проблемами жизни и смерти, над местом и ролью человека в природе, кто размышляет над уроками отечественной и мировой истории, над стихией народных бунтов, Ухтомский останется мощной фигурой праведника и мыслителя, с его колоссальной духовной энергетикой, душевной щедростью и жизнестойкостью.
…Он звал свою юную корреспондентку с осторожной почтительностью по имени и отчеству – Варварой Александровной, сразу же задав в письмах к ней наставительный тон интеллектуальной беседы, дотошно излагал спонтанно рождавшиеся мысли и, явно склонный к назидательности, если не сказать к проповедничеству, внушал ей апостольские максимы. Мог рассказать о глупых дрязгах в родительской семье, о своеволии «бездушной, безгранично эгоистической матери», угнетавшей дочерей мелочной опекой, и заклеймить «тупую и слепую злобу проклятого мещанского миросозерцания». Мог пожаловаться на утомление от вздорных кляуз в Никольском приходе и просил подумать, отчего предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости, – не есть ли это черта, пробивающаяся в нашей истории с самих собирателей Руси? Он писал ей охотно и обо всем, но с особой настойчивостью пытался донести до Варвары Александровны свое личное представление о «народной вере и Церкви», не «господской и поповской», а истинной – старорусской. Заметил как-то: «Ищет народ. Хочется быть с народной душой».
С присущим ему харизматическим даром внушения, Ухтомский направлял разговор с Варварой Александровной в религиозное русло, в тайне почувствовав, что встретит тут благодатную почву для взаимопонимания. В июле 1908 года, затронув «центральную идею» о том, как человек открывает в истории Бога, он писал: «Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него». Всемирная история, по мнению А. А. Ухтомского, представляет собой «ряды человеческих попыток осуществить Бога». Это стимулирующая, творящая идея истории. И на Древнем Востоке, и в Греции, и в Риме движение человечества сказывалось в том, как человек там и тут «осуществлял себе Бога», как «открывался Он ему».
Г. М. Цурикова
Алексей Алексеевич Ухтомский
И. С. Кузьмичев
Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаенном мыслительстве» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Настоящий сборник, включающий дневниковые записи А. А. Ухтомского и его переписку, призван обратить внимание вдумчивого читателя на эту оригинальную интеллектуальную прозу.
Алексей Ухтомский
Лицо другого человека. Из дневников и переписки
© И. С. Кузьмичев, составление, 2008
© И. С. Кузьмичев, Г. М. Цурикова, вступит. статья, 2008
© Издательство Ивана Лимбаха, 2008
© ИП Князев
* * *
Дальнее зрение
Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре XX века уникальное.
Физиолог с мировым именем, он отличался разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным видением многосложных нравственных, социальных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – подлинное откровение. Оно сохранилось, к великому сожалению, далеко не полностью и, кажется, по сей день еще не оценено в должной мере.
Ухтомский не был писателем, но с юных лет и до последних дней жизни испытывал «странную потребность» закреплять в слове напряженный процесс духовного самопознания. В литературном наследии Ухтомского нет художественных произведений, однако его письма можно рассматривать подчас и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. Дневниковые записи Ухтомского – нерегулярные, вроде бы случайные, разбросанные в рабочих тетрадях и на полях прочитанных книг, – самоценны и внутренне последовательны.
В сущности, оставленное Ухтомским литературное наследие – это самобытная интеллектуальная проза: ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, психологическая проницательность и вдобавок ко всему – «дальнее зрение», ощущение грозной поступи истории.
1
Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 года в пошехонском захолустье – в сельце Вослома Ярославской губернии, детство провел в Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Учился Ухтомский в городской классической гимназии, а тринадцати лет был отправлен в Нижний Новгород, в Кадетский корпус, который когда-то кончил его отец. Образование в корпусе давали недурное. Уже там он привык систематически штудировать труды по философии и увлекся математикой. В девятнадцать лет был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал, навсегда, впрочем, сохранив военную выправку.
Чрезвычайное обстоятельство окрасило его детство и юность. Несмышленым малышом Алешу Ухтомского выделили из родительской семьи и при здравствующих отце и матери препоручили одинокой сестре отца Анне Николаевне, тете Анне, женщине самоотверженно религиозной. Отношения с родителями, в первую очередь с матерью, – властной, деловой, меркантильно-ухватистой, – надломились. Тетя Анна до самой своей смерти в июне 1898 года, по сути, заменяла мальчику мать и оставалась для него не только «единственным в мире родным человеком», а и непререкаемым примером духовного самоустроения.
Азбуку он разбирал по житиям святых и древним священным книгам. Таинство молитвы, красота церковного богослужения пестовали восприимчивую душу мальчика. Воспитывал его тихий, заповедный мир верхневолжской старозаконной России с ее диковатой, нетронутой природой и упрямым, кержацким складом человеческой натуры. Личность слабая, безвольная, глядишь, потерялась бы в той и могучей, и убогой стихии. Ухтомский же, с малолетства приученный к самодисциплине, рано ощутивший связь с Богом, с Космосом ли, с Высшим Разумом, – выстоял, повинуясь неясной мелодии, уже тогда зазвучавшей в нем.
Внутренняя сосредоточенность пробудила интеллектуальную независимость, и работа мысли стала особенно интенсивной, когда из домашнего уюта он попал в казарму. Углубивший душевное одиночество перелом оказался дополнительным стимулом к познанию – и природы, и самого себя.
Годы обучения в Кадетском корпусе совпали для Ухтомского с тем странным возрастом кончающегося отрочества и начинающегося мужества, когда человек сталкивается с определяющим жизненным выбором, когда «волнение знания, любопытства, теоретизма» (В. Розанов) заставляло великие умы отворачиваться от шумных утех и прятаться в «монастырь философии», когда человек, доведя до предела темперамент в себе, испытывал «сладость отречения»: в молитве отрока-послушника либо во всяком воздержании ради устремления к добру, к идеалу христианского совершенства. Здесь – исток аскетизма Ухтомского, который он сам истолковывал как самоотрицание во имя идей, отказ от «приятного» из высших нравственных соображений. Не аскетизма по принуждению или подражанию, а того естественного аскетизма, когда, по словам В. Розанова, человек, и совлекши с себя плоть, любит мир именно во плоти, во всех его видах и формах, «излучаясь величайшей нежностью» ко всей природе.
Провидческая мелодия, с детства не смолкавшая в Ухтомском, на сей раз – как не однажды и в будущем! – подсказала выбор, и по окончании Кадетского корпуса он поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его еще больше заинтересовала неотделимая от религиозного сознания русская идеалистическая философия, признанным выразителем которой в России был тогда Владимир Соловьев.
Обращение к науке, к философии и вместе с тем – к Богу показательно для Ухтомского. Порог Духовной академии он переступил «уже вкусивший прелести мысли», полагая: «Раз начав думать, человек уже не должен „обращаться вспять“; он должен искать спасения в мысли же». Об этом, обозначая свои жизненные цели, писал и в дневнике в 1897 году: «…мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня».
Его влекла «анатомия человеческого духа до религии включительно», интриговали границы метафизики – те рубежи, «до которых мы можем научно думать». Избрав темой диссертации «космологическое доказательство бытия Божия», он посчитал верным придерживаться того же «способа и направления мысли, какой создал науку о природе». И при этом отстаивал принцип автономии науки, готовый оберегать ее «от нападений богословствующего разума».
Соотношение естественного и сверхъестественного с неизбежностью подводит науку к вопросу: как относиться ей к идее Бога? Какова связь между Природой и Богом, понятием столь же абсолютным? Ответ на этот кардинальный вопрос могло дать исследование религиозного опыта.
«В Духовной Академии, – вспоминал впоследствии Ухтомский, – у меня возникла мысль создать биологическую теорию религиозного опыта. При этом основою религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т. е. apriori предполагался и затем разыскивался биологически целесообразный момент богопочитания. Научная задача предвидела свое разрешение в том, чтобы благополучно найти этот физиологически утилитарный момент и схематизировать относительно него существующие материалы, характеризующие в истории религиозный опыт каких бы то ни было форм, эпох и людей».
Отличное обучение в Академии, основательный багаж в области истории и философии, литературная одаренность и талант говорить с кафедры сулили Ухтомскому завидные перспективы. Став магистром богословия, он получил предложение работать в архиве Московского Кремля, – но что-то его останавливало. «Задача моя, задача моей научной карьеры, – убеждал он себя в дневнике в августе 1899 года, – именно выяснить… психологическое существо „религиозной жизни“, т. е., попросту, величайшего из примирений с действительностью – христианства, где крепкий и смиренный сердцем Сильный и Большой всех зовет под кров свой, всех труждающихся и обремененных…»
Брат Александр, в монашестве Андрей, усиленно побуждал Алексея следовать его примеру либо избрать духовно-учебную службу, и чтобы решить вопрос: какая общественная функция наиболее отвечает его собственному предназначению, Ухтомскому потребовалось проявить волю.
Будучи уверен, что он «в отношении общественной жизни – лишь созерцатель», он перепроверял себя. «Мое поступление на духовно-учебную службу, – записывал в дневнике, – было бы понятно мне тогда, если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и умею сделать я. Но ничего такого, чего лучше меня не могут сделать мои товарищи по высшей школе, – в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием». И добавлял: «У меня есть причины не идти в монахи, и очень веские… Я не считаю себя в силах – идти в священники; да к тому я никогда не чувствовал никакой склонности…»
И все-таки после смерти Анны Николаевны, опечаленный горем, Ухтомский совершил пешее паломничество в Оптину пустынь, а потом подался в подмосковный Иосифо-Волоколамский монастырь и провел там полгода, воочию наблюдая тамошнюю сирую паству и убеждаясь, что монашеский постриг – никак не его предназначение.
«Дух веками создававшегося монастырского безделья подавляет меня, – записывал Ухтомский в дневнике. – Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать».
Размышляя о психологических причинах, побуждающих человека замыкаться в монастырских стенах, Ухтомский связывал эти причины, в частности, с тем, что человек может чувствовать свою неспособность справляться с житейскими тяготами и моральными страданиями, какие доставляет ему общество, и «предпочитает лучше сильно и глубоко, и „во всю мочь“ жить интенсивно, чем слабо, и разбросанно, и жалко жить экстенсивно».
При этом человек, избирающий для себя путь монашества, должен быть абсолютно честен перед собой в объяснении своего поведения, не испытывая досады или гнева на внешний мир. «Конечно, – и отцы понимали это лучше всего, – замечал Ухтомский, – искусственное ограничение жизни очень требует своего оправдания, но оправдание есть, если есть в глубинах сердца настоящее чувство, что ограничил жизнь, потому что не достоин ее и если бы не ограничил, дескать, было бы хуже». Стоит монаху утратить первоначальную уверенность и смиренную простоту, он, в понимании Ухтомского, «становится уже ниже человеческого достоинства, и – как выражались неоднократно отцы – демоном». Такой монах, «сидящий в келии своей с сомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами», такому монаху, по словам Антония Великого, «грозит эта жалкая, плачевная картина – стать оставленным людьми и праздным, разваленным домом, в котором только завывает ветер да живут совы…»
Ухтомский не утратил надежды «оправдать молитву из начал науки», найти правду и свет в «келье с математикой». Он чувствовал: грешно уходить от жизни в одинокое самоуслаждение духовными благами – и потому искал конкретного полезного дела и активного поприща. Ему по сердцу был деятельный аскетизм мирянина. Поведенческий статус «монаха в миру» лучше всего соответствовал его душевному составу. Во всяком случае, именно о таком статусе Ухтомский позже упоминал применительно к себе неоднократно.
Вызвав бурное негодование брата, иеромонаха Андрея, Ухтомский отправился поступать в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Однако лицам с духовным образованием сфера естественных наук официально была заказана, поэтому Ухтомский в 1899 году попадает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение.
В двадцать пять лет он опять с охотой сел на студенческую скамью, учился усердно и усидчиво и через два года утвердился ассистентом на кафедре физиологии животных, у профессора Николая Евгеньевича Введенского, который привлек Ухтомского не только фундаментальными идеями, не только тем, что был «упрямым искателем новых дорог» в физиологии, – но и всем своим обликом. Выходец из далекого вологодского села, Н. Е. Введенский, сын деревенского священника, был человеком скромным, неразговорчивым, по-крестьянски недоверчивым, жил замкнуто, без семьи, но сохранял душевную теплоту и отзывчивость к родственникам и преданным науке ученикам. С учениками и помощниками Н. Е. Введенский был строг, не терпел малейшего подтасовывания фактов в угоду абстрактным гипотезам и вместе с тем был снисходителен и «нравственно деликатен». Что-то духовно близкое уловил Ухтомский в своем учителе с самого начала их сотрудничества, – и в итоге не ошибся.
В эту пору Ухтомский познакомился с Варварой Александровной Платоновой.
2
Они встретились осенью 1905 года. Их переписка охватывает более трех с половиной десятилетий.
Она жила в родительской семье на 13-й линии Васильевского острова, на углу Большого проспекта. Он холостяком – недолго на Тучковой набережной, а потом еще ближе к ней, в казенной квартирке на 16-й линии: когда обосновался на кафедре физиологии. Там он так и прожил всю жизнь, даже академиком не изменив своей «вышке», своему «закуту», там и скончался в блокадном августе 1942 года.
В глухие, трагические времена два этих строгих и благочестивых человека исповедывались друг другу, и переписка их, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела удивительную историю их взаимоотношений – от светлого порыва к совместной жизни в молодости до драматических превратностей в дальнейшем и единения на почве религиозной, запечатлела потаенную хронику их любви – в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается дороже житейского счастья[1 - Подробнее об этом см.: Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника. СПб., 2000.].
Как-то в 1915 году Ухтомский объяснял Варваре Александровне: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться – оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собой! Но теперь мне не удается писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам… Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собой…»
Такая вот откровенность. И неслучайно письма, заменявшие ему дневник, Ухтомский просил не выбрасывать. В них он запечатлелся как доверчивый собеседник и как аскет, как трибун и как затворник, заботливый друг и человек до старости по-детски ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мелочной суеты и бесовской сутолоки ради «своей беседы с Высшим».
В письмах к Платоновой он почти не касался физиологической науки, для этого находились другие адресаты, их было немало. А Варвару Александровну не ахти как интересовала университетская среда и позже ничуть не смущало его солидное положение академика. Он всегда оставался для нее Алексеюшкой, родным, близким по духу, по вере и по судьбе. Она же – словно воплощала его собственную душу, и разговаривать с нею в письмах было ему – как дышать.
Переписка Ухтомского с Платоновой «переводима» на общедоступный язык лишь до известной степени. Их письма друг другу, во всей полифонии эмоциональных оттенков, намеков, скрытых смыслов, были до конца внятны им одним, и то, что на посторонний взгляд может показаться странным и вызвать недоумение, для них было нормально и объяснимо.
Письма двоих, – предназначенные только им самим. И любой, даже самый тактичный, читатель рискует оказаться непрошенным гостем в укромном духовном убежище. Читатель обычно пристрастен, будь он светским либо церковным человеком. Но осторожно прикасаясь к трепетной жизни, запечатленной в этих письмах, приблизиться к ее поучительной правде могут – и традиционно верующий мирянин, и ученый-натуралист, и забывший Бога незадачливый наследник того самого российского интеллигента, которому частенько адресовались гневные инвективы Ухтомского.
Модель поведения, им предложенная, отнюдь не универсальна, и у каждого, кто попробует применить ее к себе, неизбежно найдутся к нему претензии. Для канонически верующего православного – Ухтомский скорее всего вольнодумец. Для университетского коллеги-профессора – смелый парадоксалист, поставивший на себе небезопасный эксперимент одновременного служения и естественной науке, и Богу. А для всех, кто попросту способен задумываться над вечными проблемами жизни и смерти, над местом и ролью человека в природе, кто размышляет над уроками отечественной и мировой истории, над стихией народных бунтов, Ухтомский останется мощной фигурой праведника и мыслителя, с его колоссальной духовной энергетикой, душевной щедростью и жизнестойкостью.
…Он звал свою юную корреспондентку с осторожной почтительностью по имени и отчеству – Варварой Александровной, сразу же задав в письмах к ней наставительный тон интеллектуальной беседы, дотошно излагал спонтанно рождавшиеся мысли и, явно склонный к назидательности, если не сказать к проповедничеству, внушал ей апостольские максимы. Мог рассказать о глупых дрязгах в родительской семье, о своеволии «бездушной, безгранично эгоистической матери», угнетавшей дочерей мелочной опекой, и заклеймить «тупую и слепую злобу проклятого мещанского миросозерцания». Мог пожаловаться на утомление от вздорных кляуз в Никольском приходе и просил подумать, отчего предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости, – не есть ли это черта, пробивающаяся в нашей истории с самих собирателей Руси? Он писал ей охотно и обо всем, но с особой настойчивостью пытался донести до Варвары Александровны свое личное представление о «народной вере и Церкви», не «господской и поповской», а истинной – старорусской. Заметил как-то: «Ищет народ. Хочется быть с народной душой».
С присущим ему харизматическим даром внушения, Ухтомский направлял разговор с Варварой Александровной в религиозное русло, в тайне почувствовав, что встретит тут благодатную почву для взаимопонимания. В июле 1908 года, затронув «центральную идею» о том, как человек открывает в истории Бога, он писал: «Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него». Всемирная история, по мнению А. А. Ухтомского, представляет собой «ряды человеческих попыток осуществить Бога». Это стимулирующая, творящая идея истории. И на Древнем Востоке, и в Греции, и в Риме движение человечества сказывалось в том, как человек там и тут «осуществлял себе Бога», как «открывался Он ему».