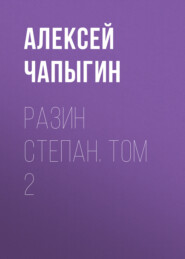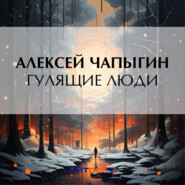По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гулящие люди
Автор
Год написания книги
1937
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты ба сменила нам чего иного, матушка!
– Беда моя, што постного боле нету, а скорому вам грех вкушать.
– В миру – везде грехи, вкушаем, мати наша!
– Вкушаем и скоромное!
Сенька поклонился матери:
– По добру ли живешь, матушка Секлетея Петровна?
– Зрю, зрю тебя, антихристов слуга! – сказала мать, как будто чужому.
– Антихристов!
– Антихристов?! Тьфу ты… – оборванцы плюнули под стол.
– Да, вот, блаженненькие, сын был, а нынче худче чужого – Никону служит!
– Поганой, мати, поганой никониянец! Какой те сын!
– Што не молишься? Позрю, как ты персты слагаешь.
Сенька, чтоб не злить старуху, стал молиться.
– Не крепко он, мати, слагает персты!
– Худо ко лбу гнетет! – уплетая жареное мясо, ворчали нищие, наблюдая за Сенькой.
– Вы, дармоеды, молчите! – сказал Сенька. – Кабы моя воля, я бы вас за ворот взял и вышиб за дверь.
– Ой, ой, мати, боимся!
– Он у тебя бешеной!
– Умолкни, антихристов слуга. Ишь возрос! И то молыть, сколь лет блудишь по свету… Чего лепкой к молитве, поди бражник да бабник стал?
Нищие вылезли из-за стола, оба, неистово колотя себя в плечи и грудь, стали креститься, расстилаясь по полу:
– Спаси, Богородица!
– Спаси, Боже, благодетельницу, рабу твою Секлетею!
– Где же отец, матушка?
– Пожди – придет! Отец тож потатчик… в вере шаток, все ему служба да торг, будто уж мирское дело больше Божьего. Шпынял меня сколь за тебя: «В стрельцы-де парня надо, а ты угнала в монастырь!» Ой, греха на себя кучу навалила, с бражником чернцом Анкудимкой пустила недоумка… зрела нынче того Анкудимку у кабака, в шумстве лаял мне с глумом великим: «Ужо-де, Секлетея, никониане обучат твое детище в посты конину жрать!»
Пришел отец, скупо покрестился, снял с себя мушкет, поставил в угол, покосился на нищих, потом взглянул на Сеньку, улыбнулся и развел руками:
– Мекал – ужли Секлетухе моей новой какой кормленник объявился, ан то Семка! Дай же поцолую.
Сенька с отцохм поцеловались. Отец умылся, потащил его за стол:
– Хмуро в клети – надо свечи! Эй, хозяйка! Секлетуха… у меня праздник, а у тебя как?
– Чему радоваться мне? Антихристов слуга, да еще на странных божьих людей грозит, а того не ведает, как большая боярыня Федосья Прокопьевна нищих призревает, они за нее Бога денно и нощно молют!
– Огню давай! Не ропоти даром… Ай да Семка! Ростом велик, лицом краше Петрухи будет! Пра, краше!
– Тятя, пошто нет тебя в Кремле у караула? Как ни гляну – все чужие бродят.
– Указ есть, Семушка! Не ведаю, от кого он – только старых стрельцов всех перевели в караулы к монастырям, где любит молитца великая мати, Марья Ильинишна, государыня. Да мне нынче легше – неделанную мою неделю удлинили вполовину, я чай…
Секлетея Петровна зажгла две свечи в медных подсвечниках, сунула на стол.
– Эй, баба старая, подавай нам с сыном яство, волоки питие к тому делу, меду, пива – чего найдется.
– Помешкаете… вот уже блаженных спать уложу.
– Порхаешься в навозе, как куря в куретнике. Торопись, нынче, сынок, безотменно в стрельцы запишу, мушкет на тебя возьму, поручусь!
– Не можно, тятя, – я патриарший ризничий…
Секлетея Петровна, возясь в стороне, плюнула:
– Вишь, он кто?!
– Ой, не может того быть!
– Я не бахарь! Правду сказываю.
– Чул я, да не верил… хотел пойти до тебя, дела мешали и помоги нет – Петруха уехал с Никоном царицу провожать, може, скоро оборотит. Старая баба, чего ты тамашишься, не подаешь яство?
– Поспеете… Опоганили вот последыша, теперь к столу не сяду, опрично от вас пить, есть буду!
– Ешь хоть под печью – нам же давай чего погорячее.
– Подсудобил родителям пакостник Анкудимко! Увел малого – погубил навек…
– Анкудим монах доброй, бражник лишь, да и то около Бога ходит, таковому ему и быти подобает!
– Ой, рехнулся старой! Богохульник, ой, Палыч!
Плотно поужинав и выпив гвоздичного меду, отец с сыном пошли наверх в горницу:
– Сними-ка ормяк, сидишь в верхней одежке, будто к чужим пришел.
– Э, нет, тятя, сижу и мыслю – повидал своих, пора к дому – там у меня патриарше добро стеречи остался единый отче Иван! Ныне опас большой… много развелось лихих людей… навалом лезут. Давай на дорогу попьем табаку – у нас того делать не можно.