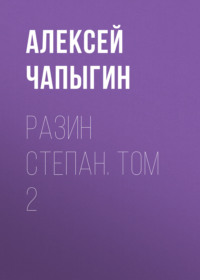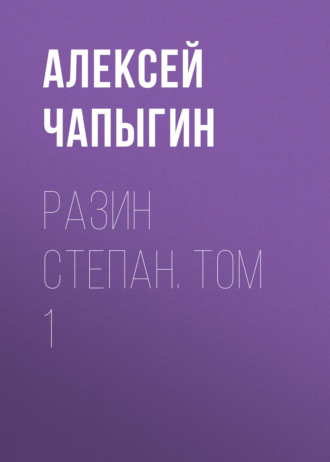
Разин Степан. Том 1

Алексей Павлович Чапыгин
Разин Степан
Часть первая
Москва
1Бесконечным числом ударов в чугунную доску Москва вторила у боярских и купеческих домов часовому бою Спасских ворот. Часы пробили, но в сумраке часов не видно было. Светились иногда фонари; стучали копыта лошади: то проезжал боярин. В конце лета сумрак густел, часто перепадали дожди. Оттого по кривым и черным улицам полз туман. Местами улицы выстланы тесаными бревнами, отпотевшими и скользкими, словно в черном мыле.
Если где шел человек, то с подорожной бумагой и фонарем. Изредка чернели фигуры стрельцов, осторожно двигавшихся на смену караула в Кремль, с бердышами на плече.
– Дьявол, а не путь! Сколь раз в море бывал, а тут слеп; ужель не попаду? – ворчал человек в бараньей шапке, в длиннополом казацком жупане и шагал со звоном подков, иногда скользил, спотыкаясь о дерево. – Сатана! – он наткнулся на поперечное бревно-колоду, загородившее улицу.
– Ты, должно, в Земском приказе не был? – окликнул человека сторож.
– Я ваших порядков московитских не ведаю, вот дырье в башке умею сверлить! – сверкнул пистолет.
Сторож отшатнулся, а человек, согнув широкую спину, пролез под колоду, выпрямился и спешно пошел дальше.
Напуганный пистолетом сторож опомнился, крикнул:
– Черт! Чтоб те ноги, ребра изломили…
Подошел другой:
– Ты пошто пропустил?
– Да вишь, шиши со Пскова по Москве бродят, должно, воровской козак, – с пистолетом, и сабля.
– Ой ты! Сговорился бы: кого ежели ограбит, чтоб доля нам.
– Спужал, трясца его бей! Глаза горят, как у волка.
– Эх ты, баба столетняя!
Посредине обширной площади, бесконечной от тумана, на толстом столбе с образом, глубоко врезанным в дерево, мигал огонь негасимой лампады сквозь слюду, вставленную в узорчатую раму. По земле расплывались тени двух человек, а у столба недалеко чернели две фигуры караульных стрельцов. Опершись на обухи бердышей, стрельцы, видимо, дремали под монотонный, жалобный голос, исходивший от земли:
– Ой, батюшки! Могильные черви точат мою грудь и губят за что меня судьи неправильные?! Да ведь муж-от мой аспид был! Под ногти мне тыкал иглы каленые… Волосьев половину выщипал. Сам порченой, и жонку ему оттого не надобно, оттого и мучитель был!..
– Aгa! – Человек в казацкой одежде глянул по земле, увидал зарытую по плечи женщину с растрепанными волосами.
От звука шагов один стрелец поднял голову:
– Эй ты, человече!
Он повернул бердыш топором к земле и крепко взялся за рукоятку.
– Кой бес тебя несет сюда?! – крикнул второй.
– Свой я вам! Чего бьете сполох?
– Есть вас своих!
– Свой, соколы! Выпить вам тащу.
– Что ты за человек?
– Видать, заезжий. Там ужо вспорют – узнаешь, за какими песнями в Москву ездят.
– Разберемся!
Человек, сдвинув баранью шапку на затылок, вытащил из-за пазухи глиняную посудину.
– Оно не худо пить, только, мотри, не отравное?
– Пошто мне вас изводить?
Стрелец приложился к горлышку посудины, другой, жадно причмокнув, сказал:
– Оставь, не все тяни!
– Ух, пей, брат! Не на кружечном, без уловной деньги[1].
– Ой, тошнешенько-о! Не видать младеньке боле ясна солнышка-а… калена-бела месяца-а!
– Убила мужа, дак молчи, чертова жонка! – крикнул стрелец.
Человек в казацкой одежде сказал:
– Други, а може, муж стоил того?
– Кто спорит, – може, и стоил, да дело не наше!
– Чего сам не пьешь?
– Хватит и мне, еще есть.
– Давай, парень, коли што, другую!
– Да уж зачал чествовать, не скупись, а то, вишь, туман, знобит…
– Лето нынь скудное – дождей, дождей…
– Нате, дуйте!
Выпивая, стрельцы рассуждали:
– И как ты, детинушка, не боишься ходить?
– Молодой, вишь, да зубастой!
– У нас на вольном Дону никого не боятся.
– Мы от дедов стрельцы, да того…
– Боитесь?
– Не так чтобы…
– Ино не на вас ли, браты-соколы, бояре воду возят?
– Ужо время приспеет – тряхнем бояр…
– До поры в терпенье!..
– Ой, а долга ли та пора?
– При-и-дет!
– Мы и нынче ни черта не боимся!
– Не боитесь?
– Не…
Один из стрельцов ударил себя кулаком в грудь.
– Глянь на меня, вольной детина, вот я не боюсь ни сатаны, ни патриарха, ни бояр…
– Ой ли?
– Вот бог – и хрест!
– Ну, брат-сокол, хвалишься!
– Не хвалюсь, башка!
– А чем докажешь зарок?
– Чем хошь!
Стрельцы захмелели.
– Не боитесь, так отроем эту жонку, в кабак сведем, сами выпьем и ее обогреем.
– А, пропади все, – отроем!
– Не, то, детина, не ладно! Какие же мы сторожи?
– Вот, браты-соколы, и не боитесь, а трусите!
– Нет, тут честь стрелецкая горит!
– Что тут горит? К жонке в сторожи приставили! Честь!
– А и то правда, отроем!
– Сами куды?
– В кабак!
– Откопаем жонку!
– А чем?
– Эво! Бердыши в руках, да я саблей подмогу.
– Мочно!
– Рой!
Подошли, отрыли женщину и за руки выволокли из ямы.
– Ена, парень, нагая?
– Ништо! Обряжу в жупан, сам пройдусь в зипуне.
– Держи одежу, жонка!
– Голова у детины, хошь в попы ставь!
– Э-эй, черти-и!
Голос зычно плыл по площади.
– Ой, перекати-поле, – пятидесятник!
– Батоги нам!
– Кнут! Чего делать, в обрат копать жонку? Увидит.
– Не копать, соколы: вы жонку пасите, я с боярскими детьми хорошо лажу.
– Иди, детинушка, – веди сговор, угомони черта!
– Э-эй, стрельцы!..
В ответ шаги и голос:
– Тут я!
– Ты тут, драный козел твою перепечу! А где другая сволочь?
– На месте стоит!
– А ты, щучий сын, пошто без бердыша, пошто не в сукмане?
– Сабля при бедре, – зипун на плечах!
– Вон ты что-о?! Эй, стра-жа-а!..
В сумраке сверкнуло лезвие сабли. Слово «стража-а» не окончено. Тело начальника осело к земле и распалось на два куска.
Детина вернулся к стрельцам.
– Куды он делся? – спросил один.
Другой засопел и громко, как бы про себя, сказал:
– Так-то не ладно!
– Чего не ладно?
– Начальника посек! Понял? Мы в разбое…
Другой, еще более хмельной стрелец захихикал, закашлялся, потом отдышался, сказал:
– Начали сечь, – туды ему, сатане, и дорога! Дай посекем в куски!..
Приволокли подтекающее кровью половинчатое тело начальника к огоньку образа.
– Матерый, черт! И как ты его, вольной, мазнул? Не всяк мочен такое…
– Одежду вниз! Секите его на куски да в яму за-мест жонки – и в кабак.
– Вот те хрест, в попы тебя, козак, – голова-а!
– Дальше попа не видал? Я, может, в патриархи гляжу!
– Хо-хо-хо. Сатана-а!
– В па-три-архи-и?!
Языки и руки стрельцов худо слушались. Казак, как говорил, сделал все. Пошли.
Сторожа на росстанях улиц снимали перед ними бревна колоды. В иных местах отпирали решетчатые ворота, спрашивали:
– Куды, служилые?
– Воров в Земской приказ!
– Мы сами воры-ы!
– Чого рот открыл до дна утробы? Тише-е!
– Начальника-то, а-а? Кровь на тебе, и я в кровях…
Казак остановился:
– Вам, браты-соколы, дорога на Дон, утечете, – на Дону много вольных сошлось, – там рука боярская коротка.
– А ты?..
– Я оттудова и туды приду!
– Врешь!
– Давай, Дема, поволокем его с жонкой в Разбойной?
– В Разбойной? Пойдем! Руки, вишь, у меня в крови…
– Вот вам еще водки! Пейте, загодя спать, а утром знать будете, что делать.
– Водку? Давай!
– Дуйте из горлышка!
Падая и подымаясь, с лицами, замаранными кровью, стрельцы пошли вдоль улицы. Казак потянул одетую в жупан женщину в переулок, выглянул из-за угла. Стрельцы про них забыли – шли, падали и, поднимая один другого, шли дальше.
– Веди, жонка! Спасайся от могилы! – плотнее запахивая женщину в жупан, сказал казак.
Женщина дрожала, едва держалась на голых ногах, черных от грязи и холода. Сверкнули белым жестяные главы многочисленных церквей. Где-то зазвонили. Загалдел народ; на ближайших рынках, словно на пожаре, заспорили и закричали женщины, торгуя холст и нитки. Берестовые и тесовые крыши на неопрятных домишках все яснее и пестрее выделялись.
– Будь крепче! Идем, кабаки отперли.
– Иду, голубь-голубой… иду, а тяжко идти…
2Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь… Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе с заплеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела желтая бумага с черными крупными буквами. В стороне в железном подсвечнике на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:
«По указу царя и великого князя Алексея Михайловича Всея Руси и Великая и Малыя – питухов от кабаков не отзывати, не гоняти – ни жене мужа, ни отцу сына, ни брату, ни сестре, ни родне иной, – покудова оный питух до креста не пропьется».
Казак по-особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.
Казак высматривал истцов[2]. Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:
– Косушку и калач!
Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддержал ее, но жупан распахнулся, и голое плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач, густо обвалянный мукой.
– Где экую откопал?
Женщина вздрогнула и, схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:
– Пропилась, – лихие люди натешились да раздели… Подобрал, вот, вишь, согреваю.
Целовальник сощурился, недобрым голосом прибавил:
– Спаси бог! Житья не стало от лихих людей. Почесть что ни ночь Москва горит…
Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах окна чирикали воробьи, слышался звон и громыхание каких-то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли.
– Немчин опять на государев двор пушку тянет…
– Молыть надо: Кукуй[3] – подь на Кукуй!
– А не скажу того – кнута пробовал! – шутили в глубине кабака у двери в прируб на бочках огромных и пузатых оборванцы-питухи. Они сидели в обнимку с женщинами. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:
– Драться, жонки, вольготнее на улице!
– А ты там стой! Она у меня Микешку отбила, а Микешка мою кику[4] спер…
– Ой, ой! Да она, вишь ты, не посацкая жонка?
– Матренка-то? Она, ведомо всем, кабацкая боярыня!
– Ха-ха-ха!
– А кика твоя с жемчугом аль с венисами[5]?
– Кика у меня от бабки!
– Знаю теперь – ха-а-а-рошая… Тут, вишь, браганы, на торгу юродивой Гришка-гроб шатается, так он Матренкиной кике непочетное место нашел: носит в портках, а зовет – килой!
– Хо-хо-хо!
– У, ты, образина нехрещеная!
Бочки лежали, иные торчали стоймя, люди за ними были как за колоннами, выходили и вновь прятались. За бочками кто-то тренькал на струнах, а перед бочками тонконогий, черный, в длинном подряснике, подпоясанный рваной тряпицей, плясал поп-расстрига, гнусаво напевая:
Дьякон с дьяконицей,Дьявол с дьяволицей —Пономарь кошкуОкалечил ножку!Кошка три года хворала,Все кота недолюбала,Кот упал с тоски,Перебил горшки!Из-за бочек выскочил музыкант, тренькавший на ящике.
– У, ты! Сидел бы там.
Музыкант заюлил, завертелся, загребая рваными полами старой распашницы, видимо украденной у жены. В прорехе мелькал голый, замаранный смолой зад.
Музыкант колотил по ящику, дергал натянутые на нем струны, подпевал:
Как под ельницею,Под березницеюКомар с мухой живет,Муха песни поет.Ой, спасибо комару,Что пришелся ко двору,Ой, спасибо мушке —Прожужжала ушки!– Эй, народ! Знаете, что ваши домры да сломницы[6] сожгли по патриаршу слову и нынче настрого заказано в кабаках песни играть?
Музыкант перестал плясать, а кабатчику ответил:
– Ништо, батько Трифон! Москва погорит – сам спляшешь.
– Ах ты, голое гузно! Ужо истцы придут, по-иному заговоришь.
Кабатчик выскочил из-за стойки с плетью. Жонки-пропойцы дрались.
Казак потянул женщину за собой. Целовальник разогнал дерущихся, вернулся за стойку. Не видя казака и его подруги, пожалел, тряхнул бородатой головой, икнул, покрестил рот:
– Истцы не идут, а детину с жонкой упустил. Детина с саблей… кровь на руках, воровские какие-то людишки…
Женщина двигалась будто во сне. Казак спросил:
– Ты, жонка, ведаешь ли путь?
– Веду, куда надо, голубь-голубой.
Они прошли по шаткому бревенчатому мосту через Москву-реку, пробрались закоулками Стрелецкой слободы. Женщина вела такими местами, где людей или не было, или редкий кто встречался им. Потом она повела старым пожарищем. Через доски с гвоздями, через обгорелые бревна и матицы шагали, спускаясь вниз до земли и вновь подымаясь на бревенчатый завал.
– Не верил тебе, что путь знаешь!
– Ой, голубь, да как мне его не знать? Истомилась я – сколь время высидела в яме. Голосила: «Прости, белой свет…» – и не упомню, что голосила денно и нощно… Ой, да откуда ты сыскался такой? С неба, видно?..
– С земли!.. Дьяк на торгу вычитал, – глянул я, ведут нагую…
В старинном тыне, обросшем кустами обгорелой калины и ивы, женщина отыскала проход. Согнувшись, пролезая, продолжала:
– Не домой тебя веду, голубь, там уловят, а здесь не ведают… Тут мои кои вещи хоронятся, да живет дедко шалой, скудной телом, юродивой…
– Иду, – веди!
Казак задел лицом за плесень тына, рукавом жупана обтер худощавое, слегка рябое лицо.
Женщина спросила:
– Никак головушку зашиб?
– Замарался – грязь хуже крови…
За тыном широко разросся вереск. В самой гуще вереска стлалась почти по земле уродливая длинная хата. На пороге, на краю входа вниз, сидел полуголый старик-горбун. На грязном теле горбуна, обмотанном железными цепями, висел на горбатой груди железный крест. Горбун не подвинулся, не шевельнулся, но сказал запавшим вглубь голосом:
– Ириньица? С того света пришла, молотчого привела. А не прикажут ли вам бояры в обрат идти?
Он растопырил костлявые ноги, мешал проходу.
– Ой, не держат ноженьки! Двинься, дедко!
Горбатый старик подобрал ноги.
Казак с женщиной вошли в подземелье, в темноте натыкались на сундуки-укладки, но женщина скоро нашарила низенькую дверку, в которую пришлось вползти обоим. На глубине еще трех ступеней вниз за дверкой была теплая горница. Женщина выдула огонь в жаратке небольшой изразцовой печки особого лежаночного уклада. Казак стоял не сгибаясь, и хотя роста он был выше среднего, до потолка горенки еще было далеко.
От восковой свечи женщина зажгла лампадку, другую и третью, перекрестилась, сказала гостю:
– Да что ты стоишь, голубь-голубой? Садись! Вызволил меня от муки мученской! А воля будет лечь – ложись: там кровать, перина, подушки – раскинься, сюды никто не придет…
Сбросила его жупан на лавку и куда-то ушла голая. Устал казак, а в горнице было тихо, как в могиле. Скинув зипун, саблю и пистолет, столкнув с ног тяжелые сапоги прямо на пол, он задремал на перине, поверх одеяла.
Женщина, тихо ступая по полу туфлями, обшитыми куницей, вернулась – прибранная в синем из камки[7] сарафане, в шелковой душегрее. Густые волосы ее смяты и вдавлены в сетчатый волосник, убранный жемчугом. Она подошла к кровати, тихо-тихо присела на край и прошептала, чтоб не разбудить гостя:
– Спи, голубь-голубой, век тебя помнить зачну… пуще отца-матери ты к моему сердцу прилип…
Казак открыл глаза.
– Ахти я, беспокойная! Саму дрема с ног валит, а тянет к тебе, голубь, прийти глянуть…
– Ляжь!
– Кабы допустил лечь – лягу и приголублю, вот только лампадки задую да образа завешу.
– Закинь Бога! Не завешай, – с огнем весело жить.
– Ой, так-то боязно, грех!
– Грех? Мало ли грехов на свете? Не гаси, ляжь!
– Ой ты, грехов гнездо! Пусти-ко… Дозволишь обнять, поцеловать ино не дозволишь? А я и мылась, да все еще землей пахну.
– Перейдет!
– Все, голубь, перейдет, а вот смертка…
– Эх, Ириньица! Ты – новой розбойной струг… Не попусту я шел за тобой.
– Родной, дай ты хоть ветошкой завешать Бога! Слаще мне будет…
– Молчи, жонка!
3Проснулся казак от яркого света свечей. За столом под образами сидел голый до пояса юродивый. Женщина исчезла. Казак сказал юроду:
– Ты чего в красный угол сел?
Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил:
– Сижу на месте… В большой угол сажают попов да дураков, а меня сызмала таковым именем кличут.
– Ну, ин сиди, и я встаю! А где Ириньица?
– Жонка в баню пошла, да вот никак лезет…
Женщина вернулась румяная, пышная и потная, на ней был надет отороченный лисьим мехом шелковый зеленый кортель-распашница, под кортелем голубой сарафан, рубаха шелковая розовая, рукава с накапками – вышивкой из жемчуга.
– Проспался, голубь-голубой, мой ты – голубь!..
– Улечу скоро! – Гость встал, под грузным телом затрещала дубовая кровать.
– Матерой! Молодой, а вишь, как грузишь, – не уродили меня веком таким грузным, – проворчал старик.
– Я вот вина принесла да меду вишневого! А улетишь, голубь-голубой, имечко скажи, за кого буду кресты класть, кого во сне звать?
– Зовут-таки меня Степаном, роду я – издалече…
– Оденься-ко, Степанушка! Чья это кровь на тебе? Смой ее с рученек да окропи, голубь, личико водой студеной… А я на торгу была… Все проведала, как наших стрельцов, что у моей ямы стояли, истцы ищут: всю-то Москву перерыли, да не дознались… Жен стрелецких да детей на спрос в Земской приказ поволокли.
– Бойся, жонка! Тебя признают, худо будет…
– Ой, ты, голубь! Жонку в Москве признать труд большой – нарумянилась я, разоделась купчихой, брови подвела, нищие мне поклоны гнут, жонку искать не станут… Будто те собаки в яме съели… И меня бы загрызли, да стрельцы, спасибо, угоняли псов: «Пущай, – говорили, – помучится».
– Худо, вишь, на добро навело… – проворчал юродивый.
– И слух, голубь, такой идет: жонку собаки растащили, а начальник стрелецкий – вор, ушел сам да стрельцов увел. По начальнику, родненький, весь сыск идет… – Женщина говорила нараспев.
– В долгом ли обмане будут! В долгом – ладно, в коротком – тогда пасись… Ну, да сабля точена, елмань[8] у ней – по руке, кто нос сунет – будет знать Стеньку…
– Ой, да что я-то? Воды забыла! – Женщина ушла, вернулась, шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода. – Умойся, голубь-голубой!
– Эх, будем гулять, плясать да песни играть! Ладно ли, Ириньица?
– Ладно, мой голубь, ладно!
– Вот и кровь умыл, – пропадай ты, Москва боярская!
– Уж истинно пропадай! Народ-от, голубь, злобится на родовитых, кои ближни царю, на Бориса Ивановича да на думнова дьяка Чистова, на Плещеева, судью корыстного: много народу задарма в тюрьме поморил. Плещеев-то царю сродни, а соль всю нынче загреб под себя – цену набил такую, что простому люду хоть без соли живи…
– Слыхал я это. У тебя, Ириньица, нет ли ненароком татарской одежины?
– Есть, голубь-голубой. С мужем-то моим – неладом его помянуть – одежиной разной в рядах торговали… Ужо я поищу в сундуках, да помню, голубь, что есть она, поганая одежина, и шапка, и чедыги[9] мягкие с узором.
– Ты жонка толковая!
– Народ-то давно бы навалился на своих супротивников, только немчинов пугается, – немчин на зелье-пушки востер, а уж, конешно, немчин – не за народ!
– Ништо и немчин! Наливай-ка, жонка!.. Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет…
Пили, целовались, снова пили. Гость поднял высоко голову курчавую. Глаза его стали глубокими и по-особому зоркими.
– А ежли меня палачи, истцы да псы разные боярские искать зачнут, тогда, Ириньица, не побоишься дать мне сугреву у себя?
– Молчи, голубь-голубой! Укрою, а сыщут – и на дыбу за тебя пойду.
– Пьем-молчим, жонка!
– Сторговались – в сани уклались, – сказал юродивый. – Хмельным старика забыли тешить?
– Помним, дедо, помним!
В большой медный кубок юродивого казак налил меду.
– Вот оно то, что надоть: и сладко, и с ног валит!
– Ты бы, дедко, рубаху накинул!
– Эх, Ириха, под рубахой моей святости не видно, а я еще плясать пойду. Ты, паренек, когда о жонку намозолишь губы, а шея заболит от женских рук, поговори со мной.
– Ладно! – Гость придвинулся к юродивому.
– Дальной ли будешь?
– С Дона… У нас хлеба не пашут, рыбу ловят, зверя бьют и ясырь[10] берут, торгуют людьми да на Волгу из Паншина гулять ездят… тем живут!
– А ты, гость-паренек, когда в атаманах будешь, не давай человека продавать…
– Пошто, дедко?
– Самого продадут… А клады искать любишь?
– Нашел, вырыл, вот, вишь, клад, – казак похлопал женщину по широкой спине.
– Этот клад поет в лад, а в лад не войдет, мороз по коже пойдет, – она у меня с норовом… Ты казну ежели золотую, жемчужную альбо серебряную похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, сиречь подосельному – о кринах черленых и белых…
– Любопытствую, дедо, скажи!
– Так вот чуй: есть скакун-трава, растет на надгробных местах, ростом высока, цвет голуб, кольцами; весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу, она сама раскрутится и скочит, а вертеть ее надо на поле: куда трава скочит, там огонь возгорится, тут и клад рой…
– Мой клад, дедо, вон на лавке лежит, – в чудеса я не верю, саблей добуду жемчуг, золото и жонку.
– Али тебе не сказывать дальше?
– Нет, ты говори – слушаю.
– Ну, так чуй! Есть трава хмель полевой, растет при болотах, на ей шишки желтые, только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике… Ежли истолкешь в порошок семя тех шишек да в вине ли, в пиве изопьешь, – сколь ни пей, пьян не будешь…
– Упомнить, дедо, потребно цвет тот, – люблю пить хмельное.
– Помни, гостюшко удалой, от многой той семени испитой человек в остатке бывает не хмелен, но зело буен и смел: в огонь, воду и на нож идет…
– Упомнить надо тот цвет: «растет при болотах, на нем шишки желтые…»
Женщина, выпивая чашу меду и опрокидывая ее пустую себе на голову, сказала:
– Иной раз на улице или в церкви дедко такое заговорит, что страшно: того гляди, истцы привяжутся и поволокут…
– Меня волокли да спущали, чтут за скудного умом… Чуй еще: есть трава, зовомая воронец, цветет на буграх, на брусничниках в густых лесах, мелка, зело тонка и видом чиста… Лапочки на ней и иглы зеленые, ствол суковатый, коленцами; на тое травине ягодки зеленые, когда и черные бывают… Пить ее отваром тому, кто кровию порчен, ежели у кого глисты, змеи, жабы и иные гады… Все из нутра утробы вон изгонит. А може, краше будет тебе о планидах сказать?
– Все, что знаешь, дедо, говори!
– Было время, шестикрыльную книгу я чел, жидовина Схарии и иных мудрых речения и письмена их еретичные, числа исчислял по маурскому счислению и по звездам, кои описаны, гадал, а вычитал я в тых книгах, что земля наша, кою чтут патриархи и иные отцы православия, яко долонь человеков, гладкой, – кругла, что небо будто бы не седми, не шти, не пять и не дву-три не бывает, что небо сие едино и земля наша кругла, а небо шар земли нашей объяло, справа, слева, внизу и вверху, что якобы земля наша вертится… Но мотри – сие говорю только тебе, ибо ты мне, как и Ириньице, по душе пал… иным боюсь. В срубе сожгут мое худое телесо древнее, да огню его предать – не изошло тому время…
– Еретичный, умолкни! – крикнула женщина и застучала чашей по столу, из чаши полился мед…
– Буйна ты, Ириньица, во хмелю зело буйна, – умолкаю…
– А я говорю: сказывай, дед! То, что попы претят говорить, надо говорить, и, может, большая правда в тех жидовинных книгах есть!.. Знать все хочу… хочу все иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной – к тому я иду и попов неправедных, как и бояр, в злобе держу.
– Знать все надо, гостюшко! – Юродивый был пьян, но, странно, во хмелю обострялся его мозг, и говорил он без запинки. Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая седая борода, звенели вериги на тощем коростоватом теле, а на горбе прыгал железный крест. – Надо знать – и вот за сие на костер готов идти, – знать все мыслю!.. И может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна – тоже шар крутящийся, и шар сей ледяной… И звезды есть, гостюшко, величины необозримой, и каждая звезда – шар, и все… все оно вертится, сменяя свет тьмой и тьму светом, и ветры и бури…