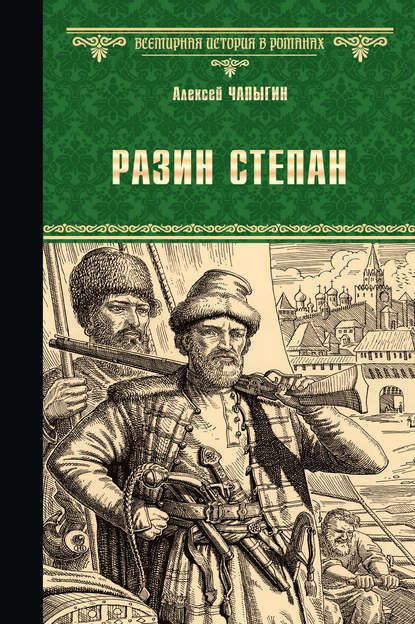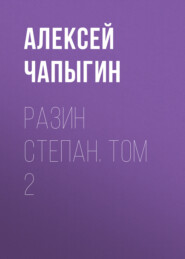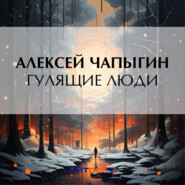По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сынок, боярин, мой сынок, у пономаря обучен Николо-Лесковской церквы.
– Рама к стклу тобой самим лажена?
– Самим мной, боярин!
– Добрая работа! А зеркало пошто ставил такое?
– Ведаю, боярин, – косит сткло, да ноги избил, искал, и нет ладных… Ужотко веницейцы аль немчины…
Боярин поднял голову, глаза смутили мастера, он снова поклонился.
– Бери свое дело в обрат! Сам ведаешь пошто – рожу воротит… Мне же его в дар дарить. Или, ты думаешь, твоей работой я зачну смеяться над тем, кому дарю… В ем не лицо – морда, как у заморской карлы, дурки, что шутные потехи потешает. Оставь оное сткло себе, басись по праздникам, когда во хмелю будешь, иди!
Серебряник еще раз поклонился, попятился и задом открыл дверь. Боярин прибавил:
– Малого, что реестру писал, пришли ко мне, учить надо – будет толк, подрастет, в подьячие устрою…
– Много благодарю, боярин!
– А в сткло глядись сам – сыщешь ладное, вправь и подай мне…
Вошел дворецкий:
– Боярин, в возке к тебе жалует на двор начальник Разбойного приказу.
– Пришли и проводи сюда! Волк на двор – собак в подворотню.
Боярин отодвинул тетрадь, прислушался к шагам, повернулся на бархатной скамье лицом к двери. Гость, стуча посохом, вошел, поблескивая лысиной долго молился в угол иконостасу; помолясь, поклонился:
– Челом бью! Поздорову ли живет думной государев боярин Борис Иванович?
– Спасибо! Честь и место, боярин, за столом.
Киврин сел, оглядывая стены, расписной потолок и ковры на широких лавках, проговорил вкрадчиво:
– Добра, богачества несметно у хозяина, а чести-почести от великого государя ему и неведомо сколь!
– Дворецкий, принеси-ка угостить гостя; чай, утомился, немолод есть.
– Живу, хожу – наше дело, боярин, трудиться, не жалобиться. Все мы холопн великого государя, а что уставать зачал, то не дела мают – годы…
– Так, боярин, так…
Дворецкий внес на золоченом большом подносе братину с вином, чарки и закуску.
– Отведай, боярин, фряжского, да нынче я от свейских купчин в дар имал бочку вина за то, что наладил им торг в Новугороде. Вот ежели сговорны будем да во вкус попадем, можно тот дар почать.
– Ой, боярин Борис Иванович, нешто я жаден до пития? Мне нынче чару, другу – и аминь. С малого хмелен – сердце заходится, да язык зачинает плести неподобное… Так во здравие твое, Борис свет Иванович!
– И в твое, Пафнутий Васильевич! Много тебе лет быть в работе, править воровскими делы…
– И еще коли – во здравие думново государева и ближняя боярина, а тако: позвоним-ка чашами… Надобе дело перво мне – упьюсь, забуду.
– Что же боярина подвигло сюды ехать?
– От дел редок, боярин! А то бы век за твоим столом сидел старый бражник… Великое дело, Борис Иванович… Уж и не знаю, как начать, чем кончить! С моста кидаешься, метишь головой вглубь, а в кокорину, гляди, попадешь… Вишь, боярин, взят мной в Разбойной шар-пальник, отаман солейного бунта Стенька Разя, так пришел я довести тебе, Борис Иванович, – по чину, как и полагается, без твоего слова не вершить, – что пытку над ним зачну скоро, отписку же по делу великому госу-дарю-царю вам дословную после пытки.
Глаза Киврина, разгораясь, уперлись в лицо боярина. Киврин продолжал:
– Сумеречный стал пошто, боярин? Или обида какая есте в словах моих – обидеть тебя не мыслю…
– Говори, боярин, – я думаю только по-иному.
– Что же думает боярин?
– Ведь с Дону почетно он к нам прислан, и не рядовым казаком, но есаулом. Справ станице выдали, к государю на очи припустили, и не ведал я до тебя, боярин, пошто станичники медлят, не едут в обрат, а это они своего дожидаются, ищу по Москве.
– Станишники – люди малые, боярин! Разбойника упустить не можно, не дать же ему вдругоряд зорить Москву, чинить дурно именитым людям!
– То правда твоя, боярин! У них же своя правда – станицу послало Великое войско донское.
– Да уж коли неведомо боярину, я скажу, а тако: будучи в Черкасском, сговорил отамана Корнейку Яковлева…
– Корнилу, боярин.
– Так и эдак кличут его… Сговорил, что пошлет он в станице заводчика. Что возьмем заводчика, то ему, отаману, ведомо и желанно, да и протчим козакам матерым Разя в укор и поношение живет, и весь его корень тоже. И дивлюсь я много на тебя, Борис Иванович: ты идешь в заступ разбойнику, а он пуще всех тебя зорил в солейном бунте!..
– То прошло, боярин. Дворецкого старика убили – жаль…
– Ой, не прошло, Борис Иванович! Разбойник, шарпальник есть, кем был. Бабр весной вылинял, да зубы целы.
– Пьем, Пафнутий Васильевич! Добрее станешь.
– А нет, боярин, договоримся, что почем на торгу – тогда…
– Что почем? Ну, так ведай!
Лицо Морозова стало красным, гордые глаза метнули по стенам, он подвинулся на скамье, заговорил упрямым голосом:
– Иман оный заводчик Разя ведь твоими истцами?
– Что верно, боярин, то истинно! Ладного человека разбойник у меня погубил, и не одного. Силач был татарин, крепок и жиловат, а Разя, окаянный, задавил истца в бою на Москве… Как только удалось ему?
– Прав, что задавил!
– Вот дивно, боярин! Разбойники зачнут избивать служилых людей, а бояре клескать в ладони да кричать: го-го-го!
– Пущай беззаконно не лезут служилые. Дано было знать о том отамане соленного бунта Квашнину Ивану Петровичу, и мы, боярин, с Квашниным судили – как быть? Квашнину я верю – знает он законы, хоть бражник. А судили мы вот: «Ладно ли взять, когда он в станице? Да взять, так можно ждать худчего бунта на Дону!..» Квашнин же указал: «Холопи, что дурно чинили на Москве и сбегли в казаки, не судимы, ежели на Москву казаками вернутся». То самое и с шарпальником: не уловили тогда, теперь ловить – дело беззаконное!.. Ты же, боярин, – прости мое прямое слово – сделал все наспех и беззаконно.