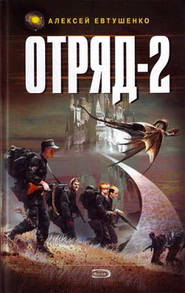По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отряд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом бою каждый полностью рассчитывал только на себя, потому что уже с пяти шагов человеческая фигура размывалась и теряла очертания, а с шести и вовсе пропадала за сплошной стеной ливня и мрака.
Молнии слепили.
После очередной вспышки перед глазами плавали оранжевые пятна, и зрение не успевало адаптироваться, как тут же следовала другая, за ней третья… и так без конца.
Это был прорыв наугад, во тьму и ливень, в грохот и слепящий свет. Лишь вспышки выстрелов в промежутках между молниями помогали кое-как ориентироваться, и Велга убил двоих, пока вырвался на склон долины. Где-то сзади еще стреляли, но он не останавливаясь бежал вверх по склону, скользя по грязи и мокрой траве, падая и подымаясь, и понимая, что единственное, чем он может помочь своим бойцам, – это остаться в живых.
Десять человек – русские и немцы – все, что осталось от двух взводов разведки, измученным маршем, под проливным дождем продвигались выше в горы, и за усталыми спинами солдат умирала гроза и последний Бой, который давали врагу их оставшиеся товарищи.
Слух еще улавливал отдаленные автоматные очереди, частые винтовочные выстрелы да изредка – хлопки гранат, но вскоре наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом утихающего дождя да надсадным дыханием измотанных людей.
Шли молча:
До полной темноты было необходимо оторваться как можно дальше от возможной погони и найти надежное убежище на ночь – люди выдохлись и вряд ли смог ли бы продолжать движение еще и ночью.
Александр Велга, шедший впереди отряда рядом с Хельмутом Дитцем, на ходу обернулся и в который уже раз поразился абсурдности и полной невозможности с точки зрения здравого смысла открывшейся перед ним картины: его разведчики шли вперемешку с немцами, рядом, плечом к плечу, как час назад плечом к плечу прорывали окружение, прикрывая и выручая друг друга… А вон гигант Малышев легко, словно тросточку, несет на левом плече свой «дегтярь», а на правом – более громоздкий и тяжелый немецкий «МГ-42», помогая Рудольфу Майеру, который заметно припадает на раненую ногу. Еще вчера… да что там вчера – сегодня утром! – они были готовы в прямом смысле слова перегрызть друг другу глотки, а теперь вот… Бой и общий враг уже объединили солдат и сделали их если и не друзьями пока, то уже соратниками, что зачастую значит ничуть не меньше, а иногда и гораздо больше.
– Саша, – Хельмут Дитц остановился и вскинул к глазам свой полевой цейссовский бинокль, – взгляни-ка туда!
Дождь все еще сеялся с неба, но страшная черная гроза ушла, и за их спинами, на западе, там, где уже садилось солнце, небо ощутимо посветлело.
Дитц протянул «цейсс» Велге, и лейтенант принял из рук немца теплый и влажный от дождя корпус бинокля.
– Там, – Хельмут протянул длинную руку по направлению к горам. – Видишь, где деревья зацепились за склон? По-моему, это пещера.
Александр чуть тронул настройку, приспосабливая бинокль к своему зрению, и мощная оптика приблизила – рукой подать – черный, неправильной формы провал в скале километрах в полутора от них.
Пещера, точно.
И подобраться к ней можно было по длинному и открытому со всех сторон склону, на котором там и сям росли какие-то невысокие разлапистые деревья.
– Кажется, то, что надо, – оторвался от окуляров бинокля Велга, – Во-первых, склон довольно длинный и отлично просматривается на всем протяжении. Сверху не подберешься – скалы, а вход не такой уж и большой – можно замаскировать камнями и теми же ветками от деревьев. Если внутри достаточно места, то лучшего ночлега и пожелать нельзя.
– И я так думаю, – устало улыбнулся Дитц и, обернувшись к отряду, громко объявил:
– Солдаты! Нам нужно добраться вон до той пещеры! Там устроимся на ночь. Потерпите, осталось немного…
И они зашагали быстрее, словно близость отдыха придала сил. Темень стремительно надвигалась на них из-за гор, и никто не знал ночных опасностей этого мира.
Дождь, было притихший, снова усилился.
Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме этого нудного холодного дождя, а его равномерный безнадежный шелест не обещал ничего, кроме насквозь мокрого мундира и гимнастерки да зябкого ночлега на каменном полу. Впрочем, десять измученных землян были сейчас рады любому ночлегу.
Пещера оказалась громадной – пришлось даже послать вглубь на разведку Вешняка и Шнайдера с фонариком – и, главное, сухой. Еще час ушел на то, чтобы завалить вход камнями, оставив лишь узкий, выходящий вбок, лаз для часовых и замаскировать все это песком и ветками. Нашелся неподалеку и ручей с чистой вкусной водой, а из собранного хвороста получилась внушительных размеров куча.
– Вот черт, промокло все насквозь! – чертыхнулся ефрейтор Карл Хейниц, без толку истратив уже третью спичку из тщательно сохраненного в сухости коробка. – Бензину бы сюда… Не могу зажечь, хоть убей!
– Дай-ка я попробую, – мягко сказал присевший рядом Михаил Малышев и протянул свою громадную ладонь.
– Ну-ну, – покосился на гиганта ефрейтор и осторожно положил на эту ладонь коробок.
Михаил разгреб сложенную немцем растопку и не торопясь начал ее складывать снова, приговаривая:
– Та-ак… а теперь вот эту положим сюда… хорошо. – Стоящий рядом Руммениге освещал будущий костер фонариком, притоптывая то ли от холода, то ли от нетерпения.
Наконец хитрая операция таежника Малышева была закончена, и он, чиркнув спичкой о коробок, сунул огонек куда-то в середину растопки…
Через две минуты костер полыхал вовсю. Дым утягивался в глубь пещеры, и можно было не опасаться, что его заметят или учуют снаружи.
Озябшие и промокшие люди потянулись к огню, и Малышев сноровисто разложил костер в длину – так раскладывают костры аляскинские индейцы, чтобы в холодную зимнюю ночь места у живительного тепла хватило всем. И вот уже кто-то со стоном облегчения стянул сапоги, а кто-то насквозь мокрую гимнастерку. Солдаты протягивали к огню руки, оружие и одежду. А когда в трех котелках, поставленных прямо среди горящих веток, вскипела вода и Оскар Руммениге, взявший на себя обязанности повара, высыпал туда что-то явно очень вкусное из собранных у всех запасов провизии, напряжение последних часов почти окончательно покинуло измученные тела и нервы бойцов.
Полностью расслабиться, однако, не удалось – Велга и Дитц назначили первую смену часовых снаружи (по двое каждый час, включая и самих лейтенантов, что было встречено с молчаливым одобрением), и это напомнило людям, что они – на враждебной территории.
Вернулись Шнайдер с Вешняком.
По их словам, пещера тянулась очень далеко – им не удалось дойти до противоположного конца.
– Еда готова! – радостно сообщил Руммениге, в очередной раз сняв пробу. – Накрывай на стол!
Семь человек (Петр Онищенко и Карл Хейниц попали в первую смену часовых) расселись с ложками наготове у соблазнительно дымящихся котелков. Но пулеметчик Рудольф Майер остался стоять, баюкая в руках флягу с водкой.
– Я хочу выпить! – сказал он громко, и эхо его голоса заметалось под сводами пещеры. – Сегодня мы сражались бок о бок и доказали этим ублюдкам сварогам, что с нами не так-то легко справиться. Я хочу выпить за те робкие ростки дружбы, которые пробились сегодня сквозь коросту нашей вражды. Я хочу выпить за нашу общую победу на этой богом проклятой планете и при этих воистину фантастических обстоятельствах. Я хочу выпить за наших товарищей, которые остались там, в безымянной долине, прикрывать наш отход и скорее всего погибли, спасая нас. Я хочу выпить в память о тех, кто погиб раньше, и в память о тех, кто погиб потом, когда мы прорывали окружение. Я хочу выпить за Михаила Малышева, который тащил на себе сегодня мой пулемет, потому что мне было больно и трудно идти из-за раненой ноги, и за всех нас, русских и немцев, которых сплотила общая беда. Сегодняшний бой показал, что мы – люди. Люди, несмотря ни на что. Выпьем же за то, чтобы и дальше оставаться людьми. И да поможет нам бог!
Скрывая подступившие слезы, Майер запрокинул голову и, сделав хороший глоток из фляги, передал ее сидящему рядом и смотрящему на него с приоткрытым ртом Валерке Стихарю.
– Да ты у нас прирожденный оратор, Руди! – воскликнул Хельмут Дитц. – Браво! Я поддерживаю этот тост.
Фляга Майера пошла по кругу. Всем досталось по полному глотку (не были забыты и часовые снаружи), а потом над котелками замелькали алюминиевые ложки.
Глоток спиртного и горячая пища, принятые вовремя, творят чудеса даже со смертельно уставшими людьми. С трапезой было покончено в пять минут (Онищенко и Хейнцу отнесли котелок наружу). Казалось бы, тут на людей и должен был навалиться сон, однако все произошло наоборот: заблестели глаза, развязались языки, и вскоре плоская коробочка «переводчика» трудилась вовсю.
Вскоре рыжий Шнайдер, немилосердно коверкая слова, запел «Катюшу», и все с воодушевлением подхватили – эту песню любили на фронте не только русские, но и немцы.
– Странно, – заметил грустно Руммениге, когда песня кончилась, – у вас, русских, столько хороших песен для солдат… С такими песнями и умирать легко. Вон, даже мы, ваши враги, их знаем и поем. А у нас один «Хорст Вессель» да «Лили Марлен», да и те… – Он безнадежно махнул рукой.
– А что «Лили Марлен»? – неуверенно нахмурился Дитц. – Хорошая песня…
– Хорошая-то она хорошая, – согласился Оскар, – но только написана еще в Первую мировую. А я про современные песни говорю.
– Это, наверное, потому, – авторитетно заявил Валерка Стихарь, – что русский народ… как это… э-э… лучше сечет в поэзии, чем немецкий. У нас больше хороших поэтов. Взять, к примеру, Пушкина…
– Бред, – фыркнул окончивший в свое время десятилетку Велга. – А Гёте? Шиллер? Гейне?
– Гейне у нас запрещен, – невпопад вставил Руммениге.
– Да бросьте вы! – вмешался в разговор Курт Шнай-дер. – Развели философию… Так хорошо сидели! А ну-ка… – и он чуть хриплым баритоном запел «Лили Марлен».
«Лили» пошла хорошо, но хуже, чем «Катюша», в силу незнания русскими слов и мелодии. Разошедшийся Малышев затянул было басом: «Вот мчится тройка почтовая…», но тут у костра бесшумно возник Петр Онищенко и, хмуро оглядев всю честную компанию, негромко осведомился:
Молнии слепили.
После очередной вспышки перед глазами плавали оранжевые пятна, и зрение не успевало адаптироваться, как тут же следовала другая, за ней третья… и так без конца.
Это был прорыв наугад, во тьму и ливень, в грохот и слепящий свет. Лишь вспышки выстрелов в промежутках между молниями помогали кое-как ориентироваться, и Велга убил двоих, пока вырвался на склон долины. Где-то сзади еще стреляли, но он не останавливаясь бежал вверх по склону, скользя по грязи и мокрой траве, падая и подымаясь, и понимая, что единственное, чем он может помочь своим бойцам, – это остаться в живых.
Десять человек – русские и немцы – все, что осталось от двух взводов разведки, измученным маршем, под проливным дождем продвигались выше в горы, и за усталыми спинами солдат умирала гроза и последний Бой, который давали врагу их оставшиеся товарищи.
Слух еще улавливал отдаленные автоматные очереди, частые винтовочные выстрелы да изредка – хлопки гранат, но вскоре наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом утихающего дождя да надсадным дыханием измотанных людей.
Шли молча:
До полной темноты было необходимо оторваться как можно дальше от возможной погони и найти надежное убежище на ночь – люди выдохлись и вряд ли смог ли бы продолжать движение еще и ночью.
Александр Велга, шедший впереди отряда рядом с Хельмутом Дитцем, на ходу обернулся и в который уже раз поразился абсурдности и полной невозможности с точки зрения здравого смысла открывшейся перед ним картины: его разведчики шли вперемешку с немцами, рядом, плечом к плечу, как час назад плечом к плечу прорывали окружение, прикрывая и выручая друг друга… А вон гигант Малышев легко, словно тросточку, несет на левом плече свой «дегтярь», а на правом – более громоздкий и тяжелый немецкий «МГ-42», помогая Рудольфу Майеру, который заметно припадает на раненую ногу. Еще вчера… да что там вчера – сегодня утром! – они были готовы в прямом смысле слова перегрызть друг другу глотки, а теперь вот… Бой и общий враг уже объединили солдат и сделали их если и не друзьями пока, то уже соратниками, что зачастую значит ничуть не меньше, а иногда и гораздо больше.
– Саша, – Хельмут Дитц остановился и вскинул к глазам свой полевой цейссовский бинокль, – взгляни-ка туда!
Дождь все еще сеялся с неба, но страшная черная гроза ушла, и за их спинами, на западе, там, где уже садилось солнце, небо ощутимо посветлело.
Дитц протянул «цейсс» Велге, и лейтенант принял из рук немца теплый и влажный от дождя корпус бинокля.
– Там, – Хельмут протянул длинную руку по направлению к горам. – Видишь, где деревья зацепились за склон? По-моему, это пещера.
Александр чуть тронул настройку, приспосабливая бинокль к своему зрению, и мощная оптика приблизила – рукой подать – черный, неправильной формы провал в скале километрах в полутора от них.
Пещера, точно.
И подобраться к ней можно было по длинному и открытому со всех сторон склону, на котором там и сям росли какие-то невысокие разлапистые деревья.
– Кажется, то, что надо, – оторвался от окуляров бинокля Велга, – Во-первых, склон довольно длинный и отлично просматривается на всем протяжении. Сверху не подберешься – скалы, а вход не такой уж и большой – можно замаскировать камнями и теми же ветками от деревьев. Если внутри достаточно места, то лучшего ночлега и пожелать нельзя.
– И я так думаю, – устало улыбнулся Дитц и, обернувшись к отряду, громко объявил:
– Солдаты! Нам нужно добраться вон до той пещеры! Там устроимся на ночь. Потерпите, осталось немного…
И они зашагали быстрее, словно близость отдыха придала сил. Темень стремительно надвигалась на них из-за гор, и никто не знал ночных опасностей этого мира.
Дождь, было притихший, снова усилился.
Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме этого нудного холодного дождя, а его равномерный безнадежный шелест не обещал ничего, кроме насквозь мокрого мундира и гимнастерки да зябкого ночлега на каменном полу. Впрочем, десять измученных землян были сейчас рады любому ночлегу.
Пещера оказалась громадной – пришлось даже послать вглубь на разведку Вешняка и Шнайдера с фонариком – и, главное, сухой. Еще час ушел на то, чтобы завалить вход камнями, оставив лишь узкий, выходящий вбок, лаз для часовых и замаскировать все это песком и ветками. Нашелся неподалеку и ручей с чистой вкусной водой, а из собранного хвороста получилась внушительных размеров куча.
– Вот черт, промокло все насквозь! – чертыхнулся ефрейтор Карл Хейниц, без толку истратив уже третью спичку из тщательно сохраненного в сухости коробка. – Бензину бы сюда… Не могу зажечь, хоть убей!
– Дай-ка я попробую, – мягко сказал присевший рядом Михаил Малышев и протянул свою громадную ладонь.
– Ну-ну, – покосился на гиганта ефрейтор и осторожно положил на эту ладонь коробок.
Михаил разгреб сложенную немцем растопку и не торопясь начал ее складывать снова, приговаривая:
– Та-ак… а теперь вот эту положим сюда… хорошо. – Стоящий рядом Руммениге освещал будущий костер фонариком, притоптывая то ли от холода, то ли от нетерпения.
Наконец хитрая операция таежника Малышева была закончена, и он, чиркнув спичкой о коробок, сунул огонек куда-то в середину растопки…
Через две минуты костер полыхал вовсю. Дым утягивался в глубь пещеры, и можно было не опасаться, что его заметят или учуют снаружи.
Озябшие и промокшие люди потянулись к огню, и Малышев сноровисто разложил костер в длину – так раскладывают костры аляскинские индейцы, чтобы в холодную зимнюю ночь места у живительного тепла хватило всем. И вот уже кто-то со стоном облегчения стянул сапоги, а кто-то насквозь мокрую гимнастерку. Солдаты протягивали к огню руки, оружие и одежду. А когда в трех котелках, поставленных прямо среди горящих веток, вскипела вода и Оскар Руммениге, взявший на себя обязанности повара, высыпал туда что-то явно очень вкусное из собранных у всех запасов провизии, напряжение последних часов почти окончательно покинуло измученные тела и нервы бойцов.
Полностью расслабиться, однако, не удалось – Велга и Дитц назначили первую смену часовых снаружи (по двое каждый час, включая и самих лейтенантов, что было встречено с молчаливым одобрением), и это напомнило людям, что они – на враждебной территории.
Вернулись Шнайдер с Вешняком.
По их словам, пещера тянулась очень далеко – им не удалось дойти до противоположного конца.
– Еда готова! – радостно сообщил Руммениге, в очередной раз сняв пробу. – Накрывай на стол!
Семь человек (Петр Онищенко и Карл Хейниц попали в первую смену часовых) расселись с ложками наготове у соблазнительно дымящихся котелков. Но пулеметчик Рудольф Майер остался стоять, баюкая в руках флягу с водкой.
– Я хочу выпить! – сказал он громко, и эхо его голоса заметалось под сводами пещеры. – Сегодня мы сражались бок о бок и доказали этим ублюдкам сварогам, что с нами не так-то легко справиться. Я хочу выпить за те робкие ростки дружбы, которые пробились сегодня сквозь коросту нашей вражды. Я хочу выпить за нашу общую победу на этой богом проклятой планете и при этих воистину фантастических обстоятельствах. Я хочу выпить за наших товарищей, которые остались там, в безымянной долине, прикрывать наш отход и скорее всего погибли, спасая нас. Я хочу выпить в память о тех, кто погиб раньше, и в память о тех, кто погиб потом, когда мы прорывали окружение. Я хочу выпить за Михаила Малышева, который тащил на себе сегодня мой пулемет, потому что мне было больно и трудно идти из-за раненой ноги, и за всех нас, русских и немцев, которых сплотила общая беда. Сегодняшний бой показал, что мы – люди. Люди, несмотря ни на что. Выпьем же за то, чтобы и дальше оставаться людьми. И да поможет нам бог!
Скрывая подступившие слезы, Майер запрокинул голову и, сделав хороший глоток из фляги, передал ее сидящему рядом и смотрящему на него с приоткрытым ртом Валерке Стихарю.
– Да ты у нас прирожденный оратор, Руди! – воскликнул Хельмут Дитц. – Браво! Я поддерживаю этот тост.
Фляга Майера пошла по кругу. Всем досталось по полному глотку (не были забыты и часовые снаружи), а потом над котелками замелькали алюминиевые ложки.
Глоток спиртного и горячая пища, принятые вовремя, творят чудеса даже со смертельно уставшими людьми. С трапезой было покончено в пять минут (Онищенко и Хейнцу отнесли котелок наружу). Казалось бы, тут на людей и должен был навалиться сон, однако все произошло наоборот: заблестели глаза, развязались языки, и вскоре плоская коробочка «переводчика» трудилась вовсю.
Вскоре рыжий Шнайдер, немилосердно коверкая слова, запел «Катюшу», и все с воодушевлением подхватили – эту песню любили на фронте не только русские, но и немцы.
– Странно, – заметил грустно Руммениге, когда песня кончилась, – у вас, русских, столько хороших песен для солдат… С такими песнями и умирать легко. Вон, даже мы, ваши враги, их знаем и поем. А у нас один «Хорст Вессель» да «Лили Марлен», да и те… – Он безнадежно махнул рукой.
– А что «Лили Марлен»? – неуверенно нахмурился Дитц. – Хорошая песня…
– Хорошая-то она хорошая, – согласился Оскар, – но только написана еще в Первую мировую. А я про современные песни говорю.
– Это, наверное, потому, – авторитетно заявил Валерка Стихарь, – что русский народ… как это… э-э… лучше сечет в поэзии, чем немецкий. У нас больше хороших поэтов. Взять, к примеру, Пушкина…
– Бред, – фыркнул окончивший в свое время десятилетку Велга. – А Гёте? Шиллер? Гейне?
– Гейне у нас запрещен, – невпопад вставил Руммениге.
– Да бросьте вы! – вмешался в разговор Курт Шнай-дер. – Развели философию… Так хорошо сидели! А ну-ка… – и он чуть хриплым баритоном запел «Лили Марлен».
«Лили» пошла хорошо, но хуже, чем «Катюша», в силу незнания русскими слов и мелодии. Разошедшийся Малышев затянул было басом: «Вот мчится тройка почтовая…», но тут у костра бесшумно возник Петр Онищенко и, хмуро оглядев всю честную компанию, негромко осведомился: