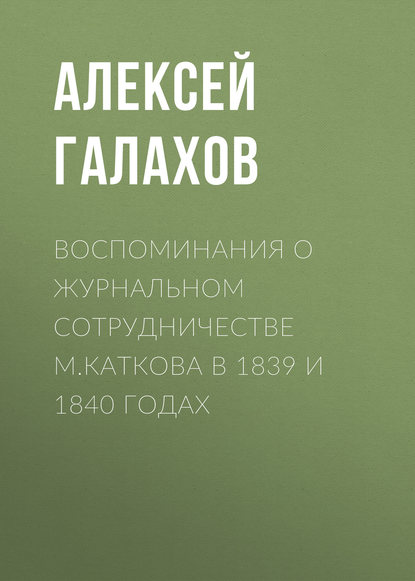По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания о журнальном сотрудничестве М.Каткова в 1839 и 1840 годах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воспоминания о журнальном сотрудничестве М.Каткова в 1839 и 1840 годах
Алексей Дмитриевич Галахов
«Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году, по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях А. А. Краевского: „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“ (с 1836 г.) и „Отечественных Записках“ с самого начала их появления (в 1839 г.)…»
Алексей Галахов
Воспоминания о журнальном сотрудничестве М. Каткова в 1839 и 1840 годах
Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году, по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях А. А. Краевского: «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» (с 1836 г.) и «Отечественных Записках» с самого начала их появления (в 1839 г.).
Обязанный, по условию, доставлять отчеты о всех новых книгах, выходящих в Москве, что требовалось для полноты критического отдела и библиографической хроники, я, разумеется, не мог один справиться с такою работой, тем более, что она была срочная, и потому предложил Белинскому разделить ее со мною, на что он охотно согласился. Хотя он сам в это время редактировал «Московский Наблюдатель», но у него оставалось еще довольно свободных часов для другой работы, в подспорье к неважному гонорару за редакторство. Когда же он, в октябре 1839 года, переселился в Петербург, то надобно было заменить его другим подходящим лицом. Скоро представился к тому благоприятный случай. Я давал уроки русского языка сыновьям князя М. H. Голицына, почетного опекуна в московском опекунском совете. На лето переселялся он в свое именье, село Никольское, верстах в двадцати от Москвы, и оттуда, раз в неделю, высылал за мной экипаж. Я оставался у него целые сутки, чтобы дать три урока. Здесь-то я познакомился с матерью Михаила Никифоровича, которая временно гостила в семействе князя с младшим сыном своим Мефеодием, а на постоянной квартире её в городе оставался старший, готовившийся к магистерскому экзамену. Предложение последнему разделить со мною журнальную работу было принято не только с удовольствием, но и с благодарностью. Особенно же радовалась мать, не имевшая обеспеченного состояния.
Лучшего пособника нельзя было и желать. Катков работал скоро, но в каждой работе выказывал необычайную даровитость и редкое по летам научное знание. Как по мысли, так и по изложению, критика его отличалась силою, меткостью, и оригинальностью. Эти качества обнаружились на первом же замечательном опыте его журнальной деятельности – на разборе сборника Сахарова «Песни русского народа», состоящем из двух статей[1 - «Отечественные Записки» 1839 год (т. IV. отдел VI, стр. 1-24 и 25-92).]. Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался. Они живо напоминают мне университетские лекции естествознания, отличавшиеся предпочтением умозрения эмпиризму и синтетическим способом изложения – от общих основ к частным выводам, что мы, студенты, называли «павловщиной». Первая статья Каткова начинается вылазкой против исключительно-фактического исследования научных предметов, приобретения множества фактов, без знания их смысла: «конечно, фактическое изучение необходимо, но это только ступень. момент полного знания; внешнее в предмете есть откровение внутреннего, проявление его сущности, на которую и нужно устремить главное внимание: только живое объятие предмета в его целости с внешней и внутренней стороны – есть истинное знание». Затем критик обращается с вопросом к мужам, «велеречиво говорящим о необъятности Россия, и к труженикам, роющимся в архивах и наглотавшимся всякого сорта пыли»: знают ли они, что такое Русь. Вопрос этот вызван изречением Н. Полевого, занимавшегося тогда Историей русского народа: «я знаю Русь, и Русь меня знает». Ответ критика – отрицательный: он осуждает мелочность занятий «Русской Историей», если они ограничиваются розысками о Несторовой летописи и о варягах, бросаемых из угла в угол – то на север, то на юг. Это – упрек Каченовскому и Погодину, из которых последний доказывал скандинавское происхождение Руси, а первый вел ее с берегов Черного моря и в числе доказательств ссылался на чуб Святослава. Погодин, ратуя с Каченовским и опровергнув все его доводы, – сказал, смеясь, одному из своих приятелей: – «теперь мне осталось уничтожить последний аргумент Михаила Трофимовича – вырвать из его рук хохол Святослава». – Такие занятия отечественной историей, по мнению критика, не могут быть названы даже приготовлением материала для науки.
Что же нужно? Нужно решить вопросы: из каких стихий сложился характер русского народа? какие свойства составляют сущность его духа? в чем проявлялась его жизнь и что это за жизнь? как развивался он и в чем заключалось это развитие? Решение этих вопросов невозможно без исследования памятников, в которых народ выразился в своей непосредственности, наивно и объективно, преимущественно же песен. Мы должны стыдиться даже меньших наших братьев, – говорит критик: они изучают эти песни, чтобы узнать физиогномию народа, понять смысл его истории; они упорно держатся своей народности и ищут ее не в мертвой букве, а там где она кипит всею полнотою сил – в народной поэзии. – А у нас разве жизнь была одним механическим выростанием? Мнение о бесплодии и хаотизме русской истории до Петра Первого должно быть отвергнуто, как ложное.
Здесь оканчивается вступление и начинается разбор книги. Он состоит из двух частей, соответственно тому, что было перед тем высказано. Первая часть определяет сознание русского духа в поэзии; вторая отыскивает этот дух в частных явлениях той же поэзии. «Отыщем прежде смысл, а потом откроем его в действительном существовании, т. е. в созданиях народного поэтического творчества».
Главные струны русской души, по мнению критика – горькое, тоскливое чувство неопределенности и безотчетное недовольство. Русский народ много и долго страдал, искупая великими жертвами каждый шаг развития, от которого ничего не получал в награду и которое ни минуты не давало ему отдыха и беспрерывно росло для будущего плода, не давая знать ни малейшим намеком о том, чем должно увенчаться это развитие. Могла ли исполинская сущность русской души, которая естественно должна была иметь и требования исполинские, довольствоваться мрачною, безотрадною действительностью? Могла ли она найти себе определение в этих неопределенных формах, в которых не было ни тени прочности? Но если настоящее русской души было мрачно и уныло, за то впереди ждала ее будущность, в которой суждено было ей найти осуществленными все элементы и требования её натуры, готовилось Провидением колоссальное определение на смену неопределенности. В народах, находящихся, как говорят немцы, im Werden (в том состоянии развития, когда они еще только становятся тем, чем действительно будут со временем), живет всегда инстинктивное сознание того, что сокрыто в тайниках их существа, предчувствие будущей действительности, в которой найдут они свое определение. Так и русская душа, отрываясь по временам от тяжести настоящего, старалась забыться в инстинкте своего назначения; не отдавая отчета в том, что ожидало ее впереди, она, однако ж, в те минуты, когда вырывалась из тяжких цепей настоящего, тешила себя широким раздольем, которое теперь вырабатывала себе жизнью и в котором некогда найдет себе определение. Вот значение того, что обыкновенно называют русским разгулом.
Отсюда переход к песням: в идеале фантазии русской заключается то же самое, что и в русской душе. Поэтому наши народные песни выражают или тоску, или разгул, удальство: первое чувство преобладает над вторым. За сим самые песни рассматриваются по отделам в порядке расположения их в сборнике Сахарова, и рассмотрение заканчивается исчислением требований от лиц, изучающих народную поэзию. Считаю нужным выписать следующее патетическое место касательно важности этого изучения:
«Да, мы должны, мы обязаны посвятить без раздела все наши силы нашей родине, нашему народу. Все то, чем мы теперь пользуемся, чем наслаждаемся, эта жизнь духа, которой мы стали участниками, не он ли, не этот ли народ выкупил нам такою дорогою ценою? Не за нас ли, не для нас ли, так тяжко страдал он? И мы ли дерзнем презирать его и не обращать внимания на то, как он жил, и на то, чем он жил? Мы должны благоговейно лобзать заживающие следы его ран; мы должны благоговейно собирать и хранить как святыню капли его крови. Не то – горе нам! Народ отодвинет от нас свою могучую сущность, не даст жизненных соков корням иноземных растений и наша образованность, которою мы так гордимся, увянет и иссохнет – и не будет плода».
Молодой критик искусно владел и выражением научных мыслей, хотя оно, на первых порах, представляет два недостатка: излишество и, по местам, риторический пафос. Но не надо забывать, что в его время, от того и другого, были несвободны даже лучшие профессора Московского университета: Давыдов, Надеждин, Шевырев. Особенно последний платил не малую дань второму недостатку.
В том же 1839 году вышло сочинение Зиновьева: «Основания русской стилистики» (т. е. риторика). Катков счел нужным поговорить о нем, потому собственно, что ни одна «система сведений» не имеет, по его словам, такой жалкой участи, как риторика[2 - «Отеч. Записки», 1839 г. (т. VI, отд. VI, стр. 47-64).]. «Риторика», «риторический» стали обозначать недоброкачественную, пустую, фразистую речь, или, как выразился Гамлет: «слова, слова, слова». К этому поводу, без сомнения, присоединилось и другое побуждение: сам критик в школе изучал эту науку и убедился в неопределенности её содержания, в схоластицизме и бесплодности её правил. Чтобы объяснить такое печальное состояние риторики, критик обратился к её истории. В лучшую эпоху древности, у греков, она была не сборником правил, а ораторским искусством. Учиться риторике, говорит он, не значило взять в руки книгу и твердить ее наизусть, а значило развивать в себе элементы, составляющие существо оратора, как он изображен Цицероном в двух трактатах: «Orator» и «de Oratore». Но с постепенным падением древнего мира, и риторика постепенно превращалась в книгу. У римлян особенно развелись риторические кодексы. Квинтилиановы Institutiones представляют скелет когда-то гармонически стройного целого. В средние века, до эпохи Возрождения, риторика все еще имела некоторое значение: ибо нужно было все, что хоть сколько-нибудь, во мраке варварства, напоминало светлую жизнь исчезнувшего мира. Но и после того она не только не исчезла, но даже помещена схоластиками в число семи свободных искусств, и её ведению предоставлено было распоряжаться словами (Ehetorica verba ministrat). Такое явление заставляет критика уподобить риторику вечному жиду. Мало того, говорит он: «когда подумаешь об окончательном уничтожении риторики, нельзя защититься от невольной мысли, что вместе с нею будет оторвано от школы нечто существенное и живое». Чтобы объяснить эту странность, найти причину живучести того, что давно начало умирать и, казалось, совсем умерло, надобно решить вопрос: возможна ли теперь риторика и как? если возможна, то из этого ясно будет следовать её необходимость. Решением этого вопроса занята вторая половина статьи, и решается он следующим образом.
Риторика возможна и необходима, но только отрекшись от своих претензий. Её владения должны ограничиться и вне и внутри, т. е. по месту её преподавания (в низших школах), и по объему её ведомства, или содержания. Разделив науки на самостоятельные и чисто-практические, критик ставит ее в средине между ними; изучение её должно следовать непосредственно за изучением грамматики. Грамматика сообщает знание слов в их отдельности или в связи, отвлеченно от их значения, до которого ей нет дела: она может показать только формальные отношения значений. Но этого недостаточно. Ученик, получив слово как материал, должен потом учиться отпечатлевать на этом материале форму; иначе: он должен узнать слово, как внешнюю форму мысли (речь). Риторике не по силам рассматривать внутреннюю форму, организацию мысли, за что она так безразсудно бралась: то и другое дает себе мысль сама. Её дело показать правила речи. Правильною речью называется не только такая, в которой соблюдены требования грамматики, но и такая, которая ясна, полна и дает сквозь себя видеть заключающееся в ней содержание. То выражение, которое соответствует своему значению, равномерно ему и вполне обнаруживает его, называется изящным. Правила этого изящного выражения и составляют предмет риторики.
Статья эта требует некоторого объяснения. Что критик называет риторикой, собственно есть стилистика (так автор и озаглавил свою книгу), которая в полном риторическом курсе занимала первую его часть под именем общей риторики, содержащей в себе правила, равно обязательные как для прозаика, так и для поэта. Оригинальность и ценность взгляда Каткова заключаются в том, что он на место хаотического содержания стилистики водворяет её подлинный предмет и ставит ей настоящую задачу – учение о стиле, или слоге. Но что такое слог? И до сих пор путаются в его определении, потому что не различают двух его сторон: субъективной и объективной. Субъективная сторона была давно определена Бюффоном, в его знаменитой речи (Discours sur le style) словами: слог – это сам человек (le style – c'est l'homme), т. е. в слоге отражаются духовные способности автора: его ум, воображение, чувство. Это – слог личный, или индивидуальный, зависящий от природы пишущего (отсюда слог Карамзина, Жуковского, Пушкина). Учиться ему нельзя, даже подражать ему опасно, потому что подражателю легко разыграть роль «вороны в павлиных перьях». Предметом стилистики может служить только объективная сторона слога, зависящая преимущественно от содержания сочинения, а частию и от его цели, и обязательная для всех и каждого. Это – внешняя форма внутреннего, мысленного материала, долженствующая вполне ему соответствовать, быть ему равномерным, ярко обнаруживать его значение. Если, по счастливому выражению Бюффона, субъективный слог есть сам человек, то о слоге объективном немецкие ученые справедливо говорят: он есть само содержание. В таком только случае он будет иметь право называться «изящным выражением». Заслуга двадцатилетнего критика, повторяем, в том и состоит, что он дал надлежащее определение слогу, как предмету особой науки и указал этой науке надлежащие пределы.
Характер критического приема, который мы уже видели в двух статьях Каткова, остался неизменным и в суждении об «Истории древней русской словесности», Максимовича (1839), профессора Киевского университета. И здесь он отправляется от общего к частному: прежде чем рассматривать новый факт научной литературы, он предварительно считает необходимым изложить свое собственное понимание предмета, – решить вопрос: при каких условиях «словесность» может быть названа «литературой». Это понимание усвоил он на университетских лекциях и знакомством с капитальными историко-литературными трудами иностранных ученых. Да и трудно было избежать такого приступа к разбору, зная скудость тогдашнего наличного капитала по этой отрасли знания. Представителем его был «Опыт краткой истории русской литературы», Греча. Поневоле придется начать ab ovo, когда прочтешь в этой книге такое определение литературы: «литературою языка или народа называются все его произведения в словесности, то есть творения, писанные на сем языке, стихами или прозою». – «Но что же такое литература и что такое словесность?» спрашивает критик. Если объем понятия словесности равняется объему понятия литературы, то все это выражение есть не что иное, как тавтология – и самая вопиющая; в таком случае можно будет так читать: литературою называются все произведения в литературе. Если же словесность и литература различны, то что же бы такое значила словесность? То есть творения, писанные на сем языке в стихах и прозе. И так словесность составляют все творения, писанные в стихах и прозе на каком-либо языке. Но это же самое, в силу определения, есть и литература, – и так литература и словесность совершенно одно и то же: они могут употребляться promiscue[3 - Без разбора, смешанно.] и поставляться одно вместо другого. И так истинный вид этого определения следующий: литература есть литература, словесность есть словесность, следовательно опять та же вопиющая тавтология!
В виду такой путаницы, критику пришлось разъяснять происхождение слова «словесность» и определять различные его значения. К словесности, по этому разъяснению, относится язык, насколько он осуществляется в словесных памятниках (устные произведения народа), а к литературе, согласно с производством этого слова – письменность (письменные, словесные памятники). В этих последних главное, существенное – содержание: в них исчезает самостоятельный интерес языка, на который обращается внимание лишь по его отношению к содержанию.
И так словесность – это устные народные произведения (песни, сказки, пословицы), литература же – это письменные словесные произведения культурной эпохи. Содержание литературы – раскрытие народного самопознания в слове. Задача истории литературы – указать это раскрытие.
Вот к каким выводам пришел молодой критик. Из них один – различение словесности и литературы – не укрепился в обычае: мы употребляем оба слова безразлично; другой – об интересе народной словесности, единственно со стороны языка и понятие о ней, как о младенческом лепете только-что пробудившейся души народа, – также не водворился в науке. Но за то сущность литературы и задача её истории поставлены верно. Задача эта и в настоящее время еще не исполнена надлежащим, вполне достойным, образом.
Переходя к словесности русской, критик прежде дает характеристику славянского племени, а затем говорит о России. Речь его клонится к тому, что у нас, до той самой эпохи, когда Петром Великим внесены были элементы европейской цивилизации, не могло быть даже и тени литературы в том смысле, как, по мнению критика, должно понимать это слово (т. е. как выражение народного самопознания в слове). Памятники нашей древней словесности не представляют с своей внутренней стороны особенного интереса ни для исторического, ни для критического изучения; единственная форма, в которой они могут быть рассматриваемы, это – расположение их в хронологическом порядке. Такой строгий приговор объясняется скудостью разработки литературных наших памятников в то время, когда книга Греча была единственным руководством для изучения нашей словесности.
Наконец, критик приступает к труду Максимовича и относится к нему скептически и строго. Он не допускает рассматривания древней нашей словесности в её постепенном развитии и взаимной связи, и в связи со всею жизнию народа, особенно с его просвещением, после того, как единственной формой расположения словесных памятников признал порядок хронологический. Он осуждает деление на периоды, ибо, по его убеждению, в древней русской словесности никакого движения не было, кроме движения в языке. Кроме того, периоды характеризуются Максимовичем не степенями развития словесности, как бы следовало, а внешними, не относящимися к ней фактами и обстоятельствами. Наконец, нет единства в делении: в первых трех периодах основанием служат, как сказано, события, совершенно посторонние словесности, а в четвертом, начинает она понемногу обозначаться своими собственными явлениями.
Оригинален взгляд критика на «Слово о полку Игореве», объясняемый не скептической школой истории, основанной Каченовским, а малой тогда разработкой наших древних памятников словесности. Катков не принимал его за действительный и достоверный памятник: «Трудно придумать», – говорит он, – «кто мог написать такую нелепицу без всякой цели, без всякой arri?re pens?e». Он не утверждал, впрочем, что «Слово» – с умыслом составленная подделка: он думал только, что мы не имеем его в истинном виде, ибо «единственный экземпляр, в котором оно дошло до нас, представляет первоначальное слово не только в искаженном виде, но и совершенно переделанным, так что от первоначального осталось несколько следов, только отдельные клочки, которые отличаются от всего прочего не столько особенным изяществом, сколько тем, что в них отзывается время близкое к описываемому событию».
Последняя (четвертая) критическая статья Каткова рассматривает «Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой», переведенные с немецкого и английского Лихониным, известным московским литератором того времени. Она написана con amore. Главною тому причиной служило сильное сочувствие к таланту девицы и её внешней судьбе. Сарра была по матери цыганского происхождения, получила отличное образование, начала писать на четырнадцатом году и умерла семнадцати лет от ужасной болезни, зародыш которой гнездился в её груди от самого рождения. Кроме того, сам критик имел поэтическое дарование, что доказывается его переводом Щекспировой трагедии: «Ромео и Джульета» и некоторых стихотворений Рюккерта и Гейне. Поэзия, философия, неизменно привлекали его к себе, начиная еще с бесед у H. Станкевича, о котором пришлось ему вспомнить в начале статьи, как о человеке, «не столько принадлежавшем публике, сколько малому кругу людей, лично его знавших и не отдохнувших еще от невозвратимой, горькой утраты»[4 - Ранней смерти.]. К числу этих немногих людей принадлежал и Михаил Никифорович вместе с Белинским. В биографическом очерке, под названием: «Несколько мгновений из жизни графа Т.», Станкевич говорит об удалении современного человека от природы, о разрыве его связи со вселенной[5 - Журнал «Телескоп», 1834 г.]. Катков воспользовался этим выражением, потому что в поэзии Сары находил проявление её духа, глубоко сознававшего свое родство с общим духом жизни. Вот те обстоятельства, которые настроили критика на поэтический тон, почему и слог его, от начала до конца, является образным, цветистым, патетическим.
Особенность этой статьи состоит в том, что она уклонилась от обычного критического приема, известного нам по прежним статьям. Она не хочет прибегать к масштабу искусства; не исходит из общего начала и раскрытием его сущности не определяет требований от индивидуального поэтического творения. Теория лирики остается в стороне, не берется за руководство в приговоре о таланте Толстой и о значении её произведений, – не берется потому, что эти произведения возникли иначе и имеют иной характер сравнительно с другими того же рода. Поэтому, большая половина статьи занята суждениями о предметах, которые естественно возбуждали внимание критика по своему близкому отношению к судьбе Сарры и к её поэтической деятельности, ставили очередные вопросы и требовали ответа.
Первый вопрос касался различения деятельности мужчины от деятельности женщины, при чем, само собою разумеется, нельзя было обойти бывших толков и споров об эмансипации женщины. Катков находит безрассудным запирать для женщины те яла другие житейские сферы. Притязание женщины на литературные занятия и на известность, ими доставляемую, тогда только может быть осуждаемо, когда окажется, что дело действительно начинается и оканчивается только притязанием. В противном случае, её участие очень желательно, как видно из примеров мистрис Джемсон, Беттины, Рахели, Жоржа Занд, заслуживших справедливую славу. Женщина должна пользоваться всеми Божиими дарами, ей должны быть отверсты все сокровища разума, все благороднейшие наслаждения образованной жизни. Все человеческое должно быть ей доступно. После всего сказанного об эмансипации, как о вопросе века, созревшем по ходу истории, критик назначает ей известные границы, отводит женской деятельности принадлежащую ей область. Эта область – семейство: «Вот мир женщины, вот сфера её подвигов! В этом мире высшее достоинство её открывается в любви дочери, в любви невесты, в любви жены, в любви матери… Будучи создана для индивидуальной жизни, для жизни своею личностью, она не обязана выходить на общественную арену для поденного труда. Лучшее, полное возмездие, которым она может заплатить за дар существования, есть она сама, её прекрасная, гармоническая личность… Истинно великая, гениальная женщина есть, по преимуществу, религиозное существо, натура глубоко-внутренняя»…
Вслед за изложением предварительных рассуждений, занявших, как мы заметили, просторное место, Катков выражает свое мнение о сочинениях Сарры. Но он, еще до критической статьи, дал им краткую оценку в извещении о выходе первого их тома[6 - «Отечеств. Записки», 1830 г., т. VI, Библиографическая хроника.]: «Это – не какие-нибудь маленькие чувствованьица, дорогие и понятные только для её родственников и знакомых, но яркие проблески души глубокой и сильной, не какие-нибудь плаксивые излияния детской мечтательности и слабой, болезненной чувствительности, но действительные, нормальные стремления богатой натуры проявить во-вне сокровища своего духа, глубоко сознававшего свое родство с общим духом жизни, глубоко понимавшего святое достоинство жизни и её обаятельную прелесть». Этот-то отзыв, в двоякой форме похвалы, отрицательной и положительной, развит подробно в статье, о которой идет речь. Истинная точка зрения для критика состоит в раскрытия единства между личностью Сарры и её поэтическою деятельностью: «говоря о её стихотворениях, мы будем говорить об её личной жизни; говоря об её жизни, мы невольно будем говорить о её стихотворениях. Она не потому гениальна, что она гениальный поэт, но потому гениальный поэт, что гениальная женщина. Содержание её сочинений было искреннейшим фактом жизни души её. То, что заключается в них – это она сама, сама Сарра; это – прекрасная, светлая, нежная, грандиозная физиономия её духа». Таков вывод критики, которая, в заключение, подкрепляет его выпиской некоторых стихотворений в прозаическом переводе.
Кроме вышеизложенных четырех критических отзывов, Каткову принадлежат еще многие рецензии в «Библиографической хронике» тех же двух годов (1839 и 1840 гг.) «Отечественных Записок»[7 - Список их приложен в конце статьи.]. Не смотря на их краткость, они свидетельствуют о сильном таланте, большой научной заправке и рельефном слоге рецензента. В особенности сильно высказывается влияние на него немецкой философии (Гегеля). Каждое суждение его о той или другой книге выражает нечто новое, открывает какую-либо сторону предмета, на которую прежде или вовсе не обращали внимания или обходили ее общими фразами… Нападки на ум, похвалы непосредственному, животному чувству, осуждение современного века за его будто бы материальное направление, короче, все то, что тогда обзывалось мракобесием, или обскуратизмом, встречали в юном критике мужественный отпор, заслуженное бичевание. Приведу два примера. В «Терапевтическом Журнале», за 1839 год, доктор Зацепин печатал свое сочинение «О жизни», странное по содержанию и изложению, какой-то уродливый мистико-философско-богословский трактат, с частыми выходками против ума. Катков, по этому случаю, пишет: «К чему эти нападки на то, что выше всяких нападок?.. Ум? не есть ли ум та божественная искра, которою человек отличен от животного, не есть ли то самое бесконечное, которое организировалось в конечной форме? Чувство? но чувство есть форма животной жизни: оно тогда только становится истинно-человеческим, когда наполнено разумным содержанием». Та же мысль развивается обстоятельнее в другом месте следующим образом:
«Все ум виноват! Позвольте, господа, не торопитесь своими проклятиями: ведь это дело не шуточное. Зачем вы видите ум только в практической стороне жизни, в успехах промышленности, железных дорогах и паровых машинах, словом, в одной только внешней полезности? Вы говорите только о чувстве, только в нем видите откровение истины, а на ум смотрите как на грех и заразу, – но ведь вы этим профанируете самое чувство… Чувство есть тот же разум, но разум, так сказать, еще чувственный, заключающийся в условиях организма, не отрешившийся от владычества плоти, не ставший духом в духе. Оно требует просветления, которое возможно только через мысль, через знание, словом через ум. Те, которые нападают на ум, обыкновенно почитают истинность и благость неотъемлемою принадлежностью чувства, и думают, что чувство никогда не ошибается и не заблуждается. Грубое заблуждение, которое из разума делает инстинкт, а из людей – животных! Чувство есть ощущение, а ощущения бывают и благие и злые, и истинные и ложные, как и мысли. Из одного и того же сердца исходит и доброе, и злое. Когда человек прощает своему врагу – он действует по внушению сердца; когда человек убивает своего врага – он действует опять по внушению того же самого сердца. Следовательно, сердце требует нравственного воспитания, духовного развития, которое возможно только при посредстве разума. Предоставленное самому себе и чуждающееся разумности, чувство и гаснет, и колобродит, и бывает даже источником преступления и злодейства. Испанцы, во имя Вечной Любви, страдающей и умирающей за её же мучителей, перерезали целые племена и обагрили кровию целую часть света. И это они сделали будто бы по религиозному чувству, так же как и основали инквизицию для того, чтобы на кострах жечь еретиков, т. е. людей, признающих, кроме чувства, еще и разум».
Другой пример дает рецензия книги: «Обед, каких не бывало, сочинение Ф. Глинки». В 1839 году в Москве открылись столы для бедных, устроенные некоторыми благотворителями. По билету в один рубль, выданный нищему, этот последний мог обедать ежедневно в течение целого месяца. Ф. Н. Глинка, бывши свидетелем такого отрадного зрелища, выразил свои чувства, примешав к ним осуждение XIX-го века, «чувственного и внешнего, развившего в огромных объемах ум свой и забывшего про сердце», как он выразился. Катков отвергает такой пессимистический взгляд:
«Автор (говорит он) приступает к делу лирическою выходкою против XIX века. Он отнимает у нашего века всякое достоинство, всякую духовность; видит в нем один разврат, одну материальность; пировою храминою его жизни называет биржу – место ума (?), расчета и торга; говорит, что теперь религия испарилась, как дорогой аромат из позлащенного сосуда… Бедный век! или и в самом деле ты одряхлел, как умирающий лев в басне Крылова, и потому на тебя так все нападают? Или ты виноват перед всеми, которые увидели свет Божий прежде нежели ты увидел его, и сердятся на тебя за то, что не хотят понять тебя? Иди, наконец, на тебя потому нападают все, что каждый видит в тебе – понятие, а не человека, которые мог бы подать просьбу за бесчестье и увечье?.. Тебя бранят и поносят на безрелигиозность, в то самое время, когда ты водружаешь знамение креста даже в Австралии, между дикими получеловеками; в то время, как ты передал Слово Божие, глагол вечной жизни, на языки всех народов и племен земного шара; в то время, когда ты, отвергшись заблуждений прошлого, так называемого лучшего века, не одним сердцем, но и разумом своим, признал Благовестие Богочеловека высшею истиною, небесною и божественною мудростью, предвечным и единым разумом, открывшим себя в очевидности явления – словом воплотившимся! Тебя бранят и поносят за меркантильность направления, за эгоизм и сибаритство, за жестокосердную холодность к страданию ближнего – и когда же? – в то самое время, когда ты открываешь сиротские приюты, комитеты для призрения бедных, даешь „обеды каких не бывало“, словом, когда ты христианские подвиги милосердия и любви к ближнему делаешь уже долгом или добровольным порывом не частных лиц, но делом общественным, государственным!.. Ф. Н. Глинка хочет видеть представителей века в романистах, которых называет „угодниками общества“; это все равно, что судить о красоте русских городов не по Москве и Петербургу, а по Тамбову и Пензе. Далее, Ф. Н. Глинка хочет судить о веке по французским романистам, справедливо называя их „угодниками общества на ловитве ощущений“: это все равно, что по двум или трем пьяным мужикам судить об образованности русского народа, видя в них его представителей. Вольно же порицателям XIX века смотреть на него из Парижа и в Париже! Да и не лучше ли б было им в том же Париже взглянуть не на одну его грязную литературу, а на пример – на его публичные больницы, где знаменитейшие врачи Европы посвящают свою деятельность на облегчение страждущего человечества, где уход на больными и порядок во внутреннем устройстве и хозяйстве свидетельствуют о высокой христианской филантропии»[8 - «Отечественные Записки», т. VIII, отдел VI (Библиографическая хроника, стр. 31-32).].
Как, впоследствии, относился М. Н. Катков к выше изложенным журнальным работам для «Отечественных Записок?»[9 - Кроме их, он сотрудничал в «Москов. Наблюдателе», под редакцией Белинского, 1838 и 1839 гг.]. Само собою, разумеется, что он видел в них только пробу пера, изощряемого и готовившагося для более широкой и плодотворной деятельности, но он вспоминал с удовольствием о критических опытах своего юношества, особенно об оценке таланта Сарры Толстой, и любил говорить о них в кругу приятелей, как это видно из прилагаемых при сем двух его ко мне писем. Первое письмо, или скорее записка, получено мною 18-го октября 1856 года, в ответ на мое приглашение отобедать у меня, вместе с другими близкими и присными мне людьми, по поводу моего переселения из Москвы в Петербург. По тесноте моей квартиры, В. П. Боткин устроил обед у себя, в доме своего отца. Кроме самого хозяина, были Грановский, Кудрявцев, И. С. Тургенев, Кетчер, Катков, Леонтьев… (увы! этот список есть вместе и поминки умерших)… и несколько других лиц, еще живых и здравствующих. Вот, что писал Катков:
«Вменяю себе в особенную честь ваше любезное приглашение и с радостью им воспользуюсь, чтобы в кругу людей, равно нам близких, и вместе с ними выразить то глубокое уважение, которое всегда соединяло и будет соединять нас с вами. Кроме общего признания ваших заслуг и ваших нравственных качеств, для меня лично воспоминание о вас имеет еще особое значение: с ним соединено еще дорогое для меня воспоминание моей первой молодости. Где бы ни случилось нам встретиться, всегда дружески протянем мы друг другу руку и, я уверен, не изменимся никогда в нашем взаимном уважении и приязни».
Второе письмо (31 января 1858 г.) извещает меня, жившего уже в Петербурге, о смерти Кудрявцева:
«Простите меня, дорогой Алексей Дмитриевич, за мое молчание на ваш привет, который тронул меня до глубины души. Поверьте, ваше сочувствие, ваше доброе расположение и к моей деятельности, и ко мне лично, ценю высоко и вижу в том истинную для себя награду и утешение. Как вы знаете меня с давних пор, так точно и я помню вас с той самой поры, когда пробуждалась во мне мысль, и первые попытки её неразрывно связаны с воспоминанием о вас, о той доброте, том доброжелательстве, том благородном сочувствии ко всему молодому, свежему, нравственно-чистому, которые всегда отличали вас. Я не писал к вам просто потому, что был подавлен страшным грузом трудов, забот, горя. Выдалась же полоса! Бывали минуты, когда я приходил в совершенное отчаяние. С одной стороны – туча неблагоприятных и слухов, и предчувствий с севера[10 - Из Петербурга.], с другой – быстрое, ужасное угасание вашего Петра Николаевича[11 - Кудрявцева, профессора Московского университета.], а тут обычным потоком. ни на минуту не останавливающимся, дела, дела, дела, которые падали на меня всею своею тяжестью. Да! к потере Петра Николаевича трудно привыкнуть. Многого с его смертью не досчитаем мы в нашем капитале. Мне он был особенно дорог, как нравственная поддержка, по сходству многих заветных убеждений. Жизнь с каждым днем становится труднее и суровее.
Без сомнения, вы имеете все право участвовать в издании сочинений Кудрявцева и в составлении его биографии[12 - Намерение это тогда не осуществилось.]. Мне, кажется, эту последнюю обязанность могли бы разделить вы с Павлом Михайловичем[13 - Леонтьевым, профессором Московского университета.], который если еще не писал, то на-днях будет писать к вам. Воспоминаний ваших ждем с нетерпением[14 - Воспоминания о Кудрявцеве («Русский Вестн.», 1858 г., т. XIII, № 4).].
За статью вашу о Лермонтове, приношу вам сердечную благодарность[15 - Лермонтов, 3 статьи (ibid., 1858 г., т. XVI, No№ 13, 14 и 16).]. Я считаю ее одним из лучших приобретений журнала. Мне было дорого и отрадно видеть то доверие, с которым вы отдавали ее мне, но говорю вам откровенно и по чистой совести, что я не встретил в ней ни одной мысли, в которой не был бы согласен с вами. Я буду печатать ее не просто, как прекрасную статью, но и как статью совершенно мне сочувственную. Жду с нетерпением второй половины.
Какое снова тяжкое испытание наступает для литературы! Сколько опять накипает на душе самых мрачных чувствований! Скажите, что выйдет из этих колебаний, из этих затягиваний и отпущений, и опять затягиваний, из этого вечного поддразниванья? И когда же? в то время, как, по-видимому, единственная и существенная поддержка П-ву[16 - Правительству. Разумеются цензурные строгости тогдашнего времени.] представляется лишь в свободном развитии мысли и слова. Напрасно суемся мы с нашими сочувствиями: нас отталкивают презрительнейшим образом. Так и быть! Будем ждать, что Бог даст.
Вы пишете, что в мае будете в Москве. Заранее радуюсь этому и надеюсь, что будем гораздо чаще видаться, нежели прошлое лето. Обнимаю вас от всей души.
СПИСОК
статей М. H. Каткова в „Отечественных Записках“ 1839 и 1840 годов[17 - Все статьи, как в отделе «Критики», так и в отделе «Библиографической Хроники», по условию, положенному редакцией журнала, без подписи авторов. Но я вел обстоятельные списки книг, подлежащих рассмотрению, с обозначением какие из них поступали ко мне, Белинскому, Каткову и Кудрявцеву. Эти списки сохраняются у меня в целости.].
А. Статьи в отделе критики. 1839 года.
1. „Песни Русского народа“, собранные Сахаровым (т. IV, стр. 1-24, 25-92).
2. „Основания Русской стилистики“, Зиновьева (т. VI, стр. 47-64).
1840 года.
3. (История древней Русской Словесности», Максимовича, книга 1 (т. IX, стр. 37-72).
4. «Сочинения в стихах и прозе», гр. Сарры Толстой, перевод с немецкого и англ. (т. XII, стр. 15-50).
Б. Статьи в Библиографической хронике. 1839 года.
5. «Очерки с лучших произведений живописи, ваяния и зодчества», издание Тромонина, 2 выи. (т. V, стр. 62 и 153).
6. «Практическая перспектива», соч. Ястребцова, ч. I (ibid., стр. 64).
Алексей Дмитриевич Галахов
«Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году, по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях А. А. Краевского: „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“ (с 1836 г.) и „Отечественных Записках“ с самого начала их появления (в 1839 г.)…»
Алексей Галахов
Воспоминания о журнальном сотрудничестве М. Каткова в 1839 и 1840 годах
Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году, по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях А. А. Краевского: «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» (с 1836 г.) и «Отечественных Записках» с самого начала их появления (в 1839 г.).
Обязанный, по условию, доставлять отчеты о всех новых книгах, выходящих в Москве, что требовалось для полноты критического отдела и библиографической хроники, я, разумеется, не мог один справиться с такою работой, тем более, что она была срочная, и потому предложил Белинскому разделить ее со мною, на что он охотно согласился. Хотя он сам в это время редактировал «Московский Наблюдатель», но у него оставалось еще довольно свободных часов для другой работы, в подспорье к неважному гонорару за редакторство. Когда же он, в октябре 1839 года, переселился в Петербург, то надобно было заменить его другим подходящим лицом. Скоро представился к тому благоприятный случай. Я давал уроки русского языка сыновьям князя М. H. Голицына, почетного опекуна в московском опекунском совете. На лето переселялся он в свое именье, село Никольское, верстах в двадцати от Москвы, и оттуда, раз в неделю, высылал за мной экипаж. Я оставался у него целые сутки, чтобы дать три урока. Здесь-то я познакомился с матерью Михаила Никифоровича, которая временно гостила в семействе князя с младшим сыном своим Мефеодием, а на постоянной квартире её в городе оставался старший, готовившийся к магистерскому экзамену. Предложение последнему разделить со мною журнальную работу было принято не только с удовольствием, но и с благодарностью. Особенно же радовалась мать, не имевшая обеспеченного состояния.
Лучшего пособника нельзя было и желать. Катков работал скоро, но в каждой работе выказывал необычайную даровитость и редкое по летам научное знание. Как по мысли, так и по изложению, критика его отличалась силою, меткостью, и оригинальностью. Эти качества обнаружились на первом же замечательном опыте его журнальной деятельности – на разборе сборника Сахарова «Песни русского народа», состоящем из двух статей[1 - «Отечественные Записки» 1839 год (т. IV. отдел VI, стр. 1-24 и 25-92).]. Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался. Они живо напоминают мне университетские лекции естествознания, отличавшиеся предпочтением умозрения эмпиризму и синтетическим способом изложения – от общих основ к частным выводам, что мы, студенты, называли «павловщиной». Первая статья Каткова начинается вылазкой против исключительно-фактического исследования научных предметов, приобретения множества фактов, без знания их смысла: «конечно, фактическое изучение необходимо, но это только ступень. момент полного знания; внешнее в предмете есть откровение внутреннего, проявление его сущности, на которую и нужно устремить главное внимание: только живое объятие предмета в его целости с внешней и внутренней стороны – есть истинное знание». Затем критик обращается с вопросом к мужам, «велеречиво говорящим о необъятности Россия, и к труженикам, роющимся в архивах и наглотавшимся всякого сорта пыли»: знают ли они, что такое Русь. Вопрос этот вызван изречением Н. Полевого, занимавшегося тогда Историей русского народа: «я знаю Русь, и Русь меня знает». Ответ критика – отрицательный: он осуждает мелочность занятий «Русской Историей», если они ограничиваются розысками о Несторовой летописи и о варягах, бросаемых из угла в угол – то на север, то на юг. Это – упрек Каченовскому и Погодину, из которых последний доказывал скандинавское происхождение Руси, а первый вел ее с берегов Черного моря и в числе доказательств ссылался на чуб Святослава. Погодин, ратуя с Каченовским и опровергнув все его доводы, – сказал, смеясь, одному из своих приятелей: – «теперь мне осталось уничтожить последний аргумент Михаила Трофимовича – вырвать из его рук хохол Святослава». – Такие занятия отечественной историей, по мнению критика, не могут быть названы даже приготовлением материала для науки.
Что же нужно? Нужно решить вопросы: из каких стихий сложился характер русского народа? какие свойства составляют сущность его духа? в чем проявлялась его жизнь и что это за жизнь? как развивался он и в чем заключалось это развитие? Решение этих вопросов невозможно без исследования памятников, в которых народ выразился в своей непосредственности, наивно и объективно, преимущественно же песен. Мы должны стыдиться даже меньших наших братьев, – говорит критик: они изучают эти песни, чтобы узнать физиогномию народа, понять смысл его истории; они упорно держатся своей народности и ищут ее не в мертвой букве, а там где она кипит всею полнотою сил – в народной поэзии. – А у нас разве жизнь была одним механическим выростанием? Мнение о бесплодии и хаотизме русской истории до Петра Первого должно быть отвергнуто, как ложное.
Здесь оканчивается вступление и начинается разбор книги. Он состоит из двух частей, соответственно тому, что было перед тем высказано. Первая часть определяет сознание русского духа в поэзии; вторая отыскивает этот дух в частных явлениях той же поэзии. «Отыщем прежде смысл, а потом откроем его в действительном существовании, т. е. в созданиях народного поэтического творчества».
Главные струны русской души, по мнению критика – горькое, тоскливое чувство неопределенности и безотчетное недовольство. Русский народ много и долго страдал, искупая великими жертвами каждый шаг развития, от которого ничего не получал в награду и которое ни минуты не давало ему отдыха и беспрерывно росло для будущего плода, не давая знать ни малейшим намеком о том, чем должно увенчаться это развитие. Могла ли исполинская сущность русской души, которая естественно должна была иметь и требования исполинские, довольствоваться мрачною, безотрадною действительностью? Могла ли она найти себе определение в этих неопределенных формах, в которых не было ни тени прочности? Но если настоящее русской души было мрачно и уныло, за то впереди ждала ее будущность, в которой суждено было ей найти осуществленными все элементы и требования её натуры, готовилось Провидением колоссальное определение на смену неопределенности. В народах, находящихся, как говорят немцы, im Werden (в том состоянии развития, когда они еще только становятся тем, чем действительно будут со временем), живет всегда инстинктивное сознание того, что сокрыто в тайниках их существа, предчувствие будущей действительности, в которой найдут они свое определение. Так и русская душа, отрываясь по временам от тяжести настоящего, старалась забыться в инстинкте своего назначения; не отдавая отчета в том, что ожидало ее впереди, она, однако ж, в те минуты, когда вырывалась из тяжких цепей настоящего, тешила себя широким раздольем, которое теперь вырабатывала себе жизнью и в котором некогда найдет себе определение. Вот значение того, что обыкновенно называют русским разгулом.
Отсюда переход к песням: в идеале фантазии русской заключается то же самое, что и в русской душе. Поэтому наши народные песни выражают или тоску, или разгул, удальство: первое чувство преобладает над вторым. За сим самые песни рассматриваются по отделам в порядке расположения их в сборнике Сахарова, и рассмотрение заканчивается исчислением требований от лиц, изучающих народную поэзию. Считаю нужным выписать следующее патетическое место касательно важности этого изучения:
«Да, мы должны, мы обязаны посвятить без раздела все наши силы нашей родине, нашему народу. Все то, чем мы теперь пользуемся, чем наслаждаемся, эта жизнь духа, которой мы стали участниками, не он ли, не этот ли народ выкупил нам такою дорогою ценою? Не за нас ли, не для нас ли, так тяжко страдал он? И мы ли дерзнем презирать его и не обращать внимания на то, как он жил, и на то, чем он жил? Мы должны благоговейно лобзать заживающие следы его ран; мы должны благоговейно собирать и хранить как святыню капли его крови. Не то – горе нам! Народ отодвинет от нас свою могучую сущность, не даст жизненных соков корням иноземных растений и наша образованность, которою мы так гордимся, увянет и иссохнет – и не будет плода».
Молодой критик искусно владел и выражением научных мыслей, хотя оно, на первых порах, представляет два недостатка: излишество и, по местам, риторический пафос. Но не надо забывать, что в его время, от того и другого, были несвободны даже лучшие профессора Московского университета: Давыдов, Надеждин, Шевырев. Особенно последний платил не малую дань второму недостатку.
В том же 1839 году вышло сочинение Зиновьева: «Основания русской стилистики» (т. е. риторика). Катков счел нужным поговорить о нем, потому собственно, что ни одна «система сведений» не имеет, по его словам, такой жалкой участи, как риторика[2 - «Отеч. Записки», 1839 г. (т. VI, отд. VI, стр. 47-64).]. «Риторика», «риторический» стали обозначать недоброкачественную, пустую, фразистую речь, или, как выразился Гамлет: «слова, слова, слова». К этому поводу, без сомнения, присоединилось и другое побуждение: сам критик в школе изучал эту науку и убедился в неопределенности её содержания, в схоластицизме и бесплодности её правил. Чтобы объяснить такое печальное состояние риторики, критик обратился к её истории. В лучшую эпоху древности, у греков, она была не сборником правил, а ораторским искусством. Учиться риторике, говорит он, не значило взять в руки книгу и твердить ее наизусть, а значило развивать в себе элементы, составляющие существо оратора, как он изображен Цицероном в двух трактатах: «Orator» и «de Oratore». Но с постепенным падением древнего мира, и риторика постепенно превращалась в книгу. У римлян особенно развелись риторические кодексы. Квинтилиановы Institutiones представляют скелет когда-то гармонически стройного целого. В средние века, до эпохи Возрождения, риторика все еще имела некоторое значение: ибо нужно было все, что хоть сколько-нибудь, во мраке варварства, напоминало светлую жизнь исчезнувшего мира. Но и после того она не только не исчезла, но даже помещена схоластиками в число семи свободных искусств, и её ведению предоставлено было распоряжаться словами (Ehetorica verba ministrat). Такое явление заставляет критика уподобить риторику вечному жиду. Мало того, говорит он: «когда подумаешь об окончательном уничтожении риторики, нельзя защититься от невольной мысли, что вместе с нею будет оторвано от школы нечто существенное и живое». Чтобы объяснить эту странность, найти причину живучести того, что давно начало умирать и, казалось, совсем умерло, надобно решить вопрос: возможна ли теперь риторика и как? если возможна, то из этого ясно будет следовать её необходимость. Решением этого вопроса занята вторая половина статьи, и решается он следующим образом.
Риторика возможна и необходима, но только отрекшись от своих претензий. Её владения должны ограничиться и вне и внутри, т. е. по месту её преподавания (в низших школах), и по объему её ведомства, или содержания. Разделив науки на самостоятельные и чисто-практические, критик ставит ее в средине между ними; изучение её должно следовать непосредственно за изучением грамматики. Грамматика сообщает знание слов в их отдельности или в связи, отвлеченно от их значения, до которого ей нет дела: она может показать только формальные отношения значений. Но этого недостаточно. Ученик, получив слово как материал, должен потом учиться отпечатлевать на этом материале форму; иначе: он должен узнать слово, как внешнюю форму мысли (речь). Риторике не по силам рассматривать внутреннюю форму, организацию мысли, за что она так безразсудно бралась: то и другое дает себе мысль сама. Её дело показать правила речи. Правильною речью называется не только такая, в которой соблюдены требования грамматики, но и такая, которая ясна, полна и дает сквозь себя видеть заключающееся в ней содержание. То выражение, которое соответствует своему значению, равномерно ему и вполне обнаруживает его, называется изящным. Правила этого изящного выражения и составляют предмет риторики.
Статья эта требует некоторого объяснения. Что критик называет риторикой, собственно есть стилистика (так автор и озаглавил свою книгу), которая в полном риторическом курсе занимала первую его часть под именем общей риторики, содержащей в себе правила, равно обязательные как для прозаика, так и для поэта. Оригинальность и ценность взгляда Каткова заключаются в том, что он на место хаотического содержания стилистики водворяет её подлинный предмет и ставит ей настоящую задачу – учение о стиле, или слоге. Но что такое слог? И до сих пор путаются в его определении, потому что не различают двух его сторон: субъективной и объективной. Субъективная сторона была давно определена Бюффоном, в его знаменитой речи (Discours sur le style) словами: слог – это сам человек (le style – c'est l'homme), т. е. в слоге отражаются духовные способности автора: его ум, воображение, чувство. Это – слог личный, или индивидуальный, зависящий от природы пишущего (отсюда слог Карамзина, Жуковского, Пушкина). Учиться ему нельзя, даже подражать ему опасно, потому что подражателю легко разыграть роль «вороны в павлиных перьях». Предметом стилистики может служить только объективная сторона слога, зависящая преимущественно от содержания сочинения, а частию и от его цели, и обязательная для всех и каждого. Это – внешняя форма внутреннего, мысленного материала, долженствующая вполне ему соответствовать, быть ему равномерным, ярко обнаруживать его значение. Если, по счастливому выражению Бюффона, субъективный слог есть сам человек, то о слоге объективном немецкие ученые справедливо говорят: он есть само содержание. В таком только случае он будет иметь право называться «изящным выражением». Заслуга двадцатилетнего критика, повторяем, в том и состоит, что он дал надлежащее определение слогу, как предмету особой науки и указал этой науке надлежащие пределы.
Характер критического приема, который мы уже видели в двух статьях Каткова, остался неизменным и в суждении об «Истории древней русской словесности», Максимовича (1839), профессора Киевского университета. И здесь он отправляется от общего к частному: прежде чем рассматривать новый факт научной литературы, он предварительно считает необходимым изложить свое собственное понимание предмета, – решить вопрос: при каких условиях «словесность» может быть названа «литературой». Это понимание усвоил он на университетских лекциях и знакомством с капитальными историко-литературными трудами иностранных ученых. Да и трудно было избежать такого приступа к разбору, зная скудость тогдашнего наличного капитала по этой отрасли знания. Представителем его был «Опыт краткой истории русской литературы», Греча. Поневоле придется начать ab ovo, когда прочтешь в этой книге такое определение литературы: «литературою языка или народа называются все его произведения в словесности, то есть творения, писанные на сем языке, стихами или прозою». – «Но что же такое литература и что такое словесность?» спрашивает критик. Если объем понятия словесности равняется объему понятия литературы, то все это выражение есть не что иное, как тавтология – и самая вопиющая; в таком случае можно будет так читать: литературою называются все произведения в литературе. Если же словесность и литература различны, то что же бы такое значила словесность? То есть творения, писанные на сем языке в стихах и прозе. И так словесность составляют все творения, писанные в стихах и прозе на каком-либо языке. Но это же самое, в силу определения, есть и литература, – и так литература и словесность совершенно одно и то же: они могут употребляться promiscue[3 - Без разбора, смешанно.] и поставляться одно вместо другого. И так истинный вид этого определения следующий: литература есть литература, словесность есть словесность, следовательно опять та же вопиющая тавтология!
В виду такой путаницы, критику пришлось разъяснять происхождение слова «словесность» и определять различные его значения. К словесности, по этому разъяснению, относится язык, насколько он осуществляется в словесных памятниках (устные произведения народа), а к литературе, согласно с производством этого слова – письменность (письменные, словесные памятники). В этих последних главное, существенное – содержание: в них исчезает самостоятельный интерес языка, на который обращается внимание лишь по его отношению к содержанию.
И так словесность – это устные народные произведения (песни, сказки, пословицы), литература же – это письменные словесные произведения культурной эпохи. Содержание литературы – раскрытие народного самопознания в слове. Задача истории литературы – указать это раскрытие.
Вот к каким выводам пришел молодой критик. Из них один – различение словесности и литературы – не укрепился в обычае: мы употребляем оба слова безразлично; другой – об интересе народной словесности, единственно со стороны языка и понятие о ней, как о младенческом лепете только-что пробудившейся души народа, – также не водворился в науке. Но за то сущность литературы и задача её истории поставлены верно. Задача эта и в настоящее время еще не исполнена надлежащим, вполне достойным, образом.
Переходя к словесности русской, критик прежде дает характеристику славянского племени, а затем говорит о России. Речь его клонится к тому, что у нас, до той самой эпохи, когда Петром Великим внесены были элементы европейской цивилизации, не могло быть даже и тени литературы в том смысле, как, по мнению критика, должно понимать это слово (т. е. как выражение народного самопознания в слове). Памятники нашей древней словесности не представляют с своей внутренней стороны особенного интереса ни для исторического, ни для критического изучения; единственная форма, в которой они могут быть рассматриваемы, это – расположение их в хронологическом порядке. Такой строгий приговор объясняется скудостью разработки литературных наших памятников в то время, когда книга Греча была единственным руководством для изучения нашей словесности.
Наконец, критик приступает к труду Максимовича и относится к нему скептически и строго. Он не допускает рассматривания древней нашей словесности в её постепенном развитии и взаимной связи, и в связи со всею жизнию народа, особенно с его просвещением, после того, как единственной формой расположения словесных памятников признал порядок хронологический. Он осуждает деление на периоды, ибо, по его убеждению, в древней русской словесности никакого движения не было, кроме движения в языке. Кроме того, периоды характеризуются Максимовичем не степенями развития словесности, как бы следовало, а внешними, не относящимися к ней фактами и обстоятельствами. Наконец, нет единства в делении: в первых трех периодах основанием служат, как сказано, события, совершенно посторонние словесности, а в четвертом, начинает она понемногу обозначаться своими собственными явлениями.
Оригинален взгляд критика на «Слово о полку Игореве», объясняемый не скептической школой истории, основанной Каченовским, а малой тогда разработкой наших древних памятников словесности. Катков не принимал его за действительный и достоверный памятник: «Трудно придумать», – говорит он, – «кто мог написать такую нелепицу без всякой цели, без всякой arri?re pens?e». Он не утверждал, впрочем, что «Слово» – с умыслом составленная подделка: он думал только, что мы не имеем его в истинном виде, ибо «единственный экземпляр, в котором оно дошло до нас, представляет первоначальное слово не только в искаженном виде, но и совершенно переделанным, так что от первоначального осталось несколько следов, только отдельные клочки, которые отличаются от всего прочего не столько особенным изяществом, сколько тем, что в них отзывается время близкое к описываемому событию».
Последняя (четвертая) критическая статья Каткова рассматривает «Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой», переведенные с немецкого и английского Лихониным, известным московским литератором того времени. Она написана con amore. Главною тому причиной служило сильное сочувствие к таланту девицы и её внешней судьбе. Сарра была по матери цыганского происхождения, получила отличное образование, начала писать на четырнадцатом году и умерла семнадцати лет от ужасной болезни, зародыш которой гнездился в её груди от самого рождения. Кроме того, сам критик имел поэтическое дарование, что доказывается его переводом Щекспировой трагедии: «Ромео и Джульета» и некоторых стихотворений Рюккерта и Гейне. Поэзия, философия, неизменно привлекали его к себе, начиная еще с бесед у H. Станкевича, о котором пришлось ему вспомнить в начале статьи, как о человеке, «не столько принадлежавшем публике, сколько малому кругу людей, лично его знавших и не отдохнувших еще от невозвратимой, горькой утраты»[4 - Ранней смерти.]. К числу этих немногих людей принадлежал и Михаил Никифорович вместе с Белинским. В биографическом очерке, под названием: «Несколько мгновений из жизни графа Т.», Станкевич говорит об удалении современного человека от природы, о разрыве его связи со вселенной[5 - Журнал «Телескоп», 1834 г.]. Катков воспользовался этим выражением, потому что в поэзии Сары находил проявление её духа, глубоко сознававшего свое родство с общим духом жизни. Вот те обстоятельства, которые настроили критика на поэтический тон, почему и слог его, от начала до конца, является образным, цветистым, патетическим.
Особенность этой статьи состоит в том, что она уклонилась от обычного критического приема, известного нам по прежним статьям. Она не хочет прибегать к масштабу искусства; не исходит из общего начала и раскрытием его сущности не определяет требований от индивидуального поэтического творения. Теория лирики остается в стороне, не берется за руководство в приговоре о таланте Толстой и о значении её произведений, – не берется потому, что эти произведения возникли иначе и имеют иной характер сравнительно с другими того же рода. Поэтому, большая половина статьи занята суждениями о предметах, которые естественно возбуждали внимание критика по своему близкому отношению к судьбе Сарры и к её поэтической деятельности, ставили очередные вопросы и требовали ответа.
Первый вопрос касался различения деятельности мужчины от деятельности женщины, при чем, само собою разумеется, нельзя было обойти бывших толков и споров об эмансипации женщины. Катков находит безрассудным запирать для женщины те яла другие житейские сферы. Притязание женщины на литературные занятия и на известность, ими доставляемую, тогда только может быть осуждаемо, когда окажется, что дело действительно начинается и оканчивается только притязанием. В противном случае, её участие очень желательно, как видно из примеров мистрис Джемсон, Беттины, Рахели, Жоржа Занд, заслуживших справедливую славу. Женщина должна пользоваться всеми Божиими дарами, ей должны быть отверсты все сокровища разума, все благороднейшие наслаждения образованной жизни. Все человеческое должно быть ей доступно. После всего сказанного об эмансипации, как о вопросе века, созревшем по ходу истории, критик назначает ей известные границы, отводит женской деятельности принадлежащую ей область. Эта область – семейство: «Вот мир женщины, вот сфера её подвигов! В этом мире высшее достоинство её открывается в любви дочери, в любви невесты, в любви жены, в любви матери… Будучи создана для индивидуальной жизни, для жизни своею личностью, она не обязана выходить на общественную арену для поденного труда. Лучшее, полное возмездие, которым она может заплатить за дар существования, есть она сама, её прекрасная, гармоническая личность… Истинно великая, гениальная женщина есть, по преимуществу, религиозное существо, натура глубоко-внутренняя»…
Вслед за изложением предварительных рассуждений, занявших, как мы заметили, просторное место, Катков выражает свое мнение о сочинениях Сарры. Но он, еще до критической статьи, дал им краткую оценку в извещении о выходе первого их тома[6 - «Отечеств. Записки», 1830 г., т. VI, Библиографическая хроника.]: «Это – не какие-нибудь маленькие чувствованьица, дорогие и понятные только для её родственников и знакомых, но яркие проблески души глубокой и сильной, не какие-нибудь плаксивые излияния детской мечтательности и слабой, болезненной чувствительности, но действительные, нормальные стремления богатой натуры проявить во-вне сокровища своего духа, глубоко сознававшего свое родство с общим духом жизни, глубоко понимавшего святое достоинство жизни и её обаятельную прелесть». Этот-то отзыв, в двоякой форме похвалы, отрицательной и положительной, развит подробно в статье, о которой идет речь. Истинная точка зрения для критика состоит в раскрытия единства между личностью Сарры и её поэтическою деятельностью: «говоря о её стихотворениях, мы будем говорить об её личной жизни; говоря об её жизни, мы невольно будем говорить о её стихотворениях. Она не потому гениальна, что она гениальный поэт, но потому гениальный поэт, что гениальная женщина. Содержание её сочинений было искреннейшим фактом жизни души её. То, что заключается в них – это она сама, сама Сарра; это – прекрасная, светлая, нежная, грандиозная физиономия её духа». Таков вывод критики, которая, в заключение, подкрепляет его выпиской некоторых стихотворений в прозаическом переводе.
Кроме вышеизложенных четырех критических отзывов, Каткову принадлежат еще многие рецензии в «Библиографической хронике» тех же двух годов (1839 и 1840 гг.) «Отечественных Записок»[7 - Список их приложен в конце статьи.]. Не смотря на их краткость, они свидетельствуют о сильном таланте, большой научной заправке и рельефном слоге рецензента. В особенности сильно высказывается влияние на него немецкой философии (Гегеля). Каждое суждение его о той или другой книге выражает нечто новое, открывает какую-либо сторону предмета, на которую прежде или вовсе не обращали внимания или обходили ее общими фразами… Нападки на ум, похвалы непосредственному, животному чувству, осуждение современного века за его будто бы материальное направление, короче, все то, что тогда обзывалось мракобесием, или обскуратизмом, встречали в юном критике мужественный отпор, заслуженное бичевание. Приведу два примера. В «Терапевтическом Журнале», за 1839 год, доктор Зацепин печатал свое сочинение «О жизни», странное по содержанию и изложению, какой-то уродливый мистико-философско-богословский трактат, с частыми выходками против ума. Катков, по этому случаю, пишет: «К чему эти нападки на то, что выше всяких нападок?.. Ум? не есть ли ум та божественная искра, которою человек отличен от животного, не есть ли то самое бесконечное, которое организировалось в конечной форме? Чувство? но чувство есть форма животной жизни: оно тогда только становится истинно-человеческим, когда наполнено разумным содержанием». Та же мысль развивается обстоятельнее в другом месте следующим образом:
«Все ум виноват! Позвольте, господа, не торопитесь своими проклятиями: ведь это дело не шуточное. Зачем вы видите ум только в практической стороне жизни, в успехах промышленности, железных дорогах и паровых машинах, словом, в одной только внешней полезности? Вы говорите только о чувстве, только в нем видите откровение истины, а на ум смотрите как на грех и заразу, – но ведь вы этим профанируете самое чувство… Чувство есть тот же разум, но разум, так сказать, еще чувственный, заключающийся в условиях организма, не отрешившийся от владычества плоти, не ставший духом в духе. Оно требует просветления, которое возможно только через мысль, через знание, словом через ум. Те, которые нападают на ум, обыкновенно почитают истинность и благость неотъемлемою принадлежностью чувства, и думают, что чувство никогда не ошибается и не заблуждается. Грубое заблуждение, которое из разума делает инстинкт, а из людей – животных! Чувство есть ощущение, а ощущения бывают и благие и злые, и истинные и ложные, как и мысли. Из одного и того же сердца исходит и доброе, и злое. Когда человек прощает своему врагу – он действует по внушению сердца; когда человек убивает своего врага – он действует опять по внушению того же самого сердца. Следовательно, сердце требует нравственного воспитания, духовного развития, которое возможно только при посредстве разума. Предоставленное самому себе и чуждающееся разумности, чувство и гаснет, и колобродит, и бывает даже источником преступления и злодейства. Испанцы, во имя Вечной Любви, страдающей и умирающей за её же мучителей, перерезали целые племена и обагрили кровию целую часть света. И это они сделали будто бы по религиозному чувству, так же как и основали инквизицию для того, чтобы на кострах жечь еретиков, т. е. людей, признающих, кроме чувства, еще и разум».
Другой пример дает рецензия книги: «Обед, каких не бывало, сочинение Ф. Глинки». В 1839 году в Москве открылись столы для бедных, устроенные некоторыми благотворителями. По билету в один рубль, выданный нищему, этот последний мог обедать ежедневно в течение целого месяца. Ф. Н. Глинка, бывши свидетелем такого отрадного зрелища, выразил свои чувства, примешав к ним осуждение XIX-го века, «чувственного и внешнего, развившего в огромных объемах ум свой и забывшего про сердце», как он выразился. Катков отвергает такой пессимистический взгляд:
«Автор (говорит он) приступает к делу лирическою выходкою против XIX века. Он отнимает у нашего века всякое достоинство, всякую духовность; видит в нем один разврат, одну материальность; пировою храминою его жизни называет биржу – место ума (?), расчета и торга; говорит, что теперь религия испарилась, как дорогой аромат из позлащенного сосуда… Бедный век! или и в самом деле ты одряхлел, как умирающий лев в басне Крылова, и потому на тебя так все нападают? Или ты виноват перед всеми, которые увидели свет Божий прежде нежели ты увидел его, и сердятся на тебя за то, что не хотят понять тебя? Иди, наконец, на тебя потому нападают все, что каждый видит в тебе – понятие, а не человека, которые мог бы подать просьбу за бесчестье и увечье?.. Тебя бранят и поносят на безрелигиозность, в то самое время, когда ты водружаешь знамение креста даже в Австралии, между дикими получеловеками; в то время, как ты передал Слово Божие, глагол вечной жизни, на языки всех народов и племен земного шара; в то время, когда ты, отвергшись заблуждений прошлого, так называемого лучшего века, не одним сердцем, но и разумом своим, признал Благовестие Богочеловека высшею истиною, небесною и божественною мудростью, предвечным и единым разумом, открывшим себя в очевидности явления – словом воплотившимся! Тебя бранят и поносят за меркантильность направления, за эгоизм и сибаритство, за жестокосердную холодность к страданию ближнего – и когда же? – в то самое время, когда ты открываешь сиротские приюты, комитеты для призрения бедных, даешь „обеды каких не бывало“, словом, когда ты христианские подвиги милосердия и любви к ближнему делаешь уже долгом или добровольным порывом не частных лиц, но делом общественным, государственным!.. Ф. Н. Глинка хочет видеть представителей века в романистах, которых называет „угодниками общества“; это все равно, что судить о красоте русских городов не по Москве и Петербургу, а по Тамбову и Пензе. Далее, Ф. Н. Глинка хочет судить о веке по французским романистам, справедливо называя их „угодниками общества на ловитве ощущений“: это все равно, что по двум или трем пьяным мужикам судить об образованности русского народа, видя в них его представителей. Вольно же порицателям XIX века смотреть на него из Парижа и в Париже! Да и не лучше ли б было им в том же Париже взглянуть не на одну его грязную литературу, а на пример – на его публичные больницы, где знаменитейшие врачи Европы посвящают свою деятельность на облегчение страждущего человечества, где уход на больными и порядок во внутреннем устройстве и хозяйстве свидетельствуют о высокой христианской филантропии»[8 - «Отечественные Записки», т. VIII, отдел VI (Библиографическая хроника, стр. 31-32).].
Как, впоследствии, относился М. Н. Катков к выше изложенным журнальным работам для «Отечественных Записок?»[9 - Кроме их, он сотрудничал в «Москов. Наблюдателе», под редакцией Белинского, 1838 и 1839 гг.]. Само собою, разумеется, что он видел в них только пробу пера, изощряемого и готовившагося для более широкой и плодотворной деятельности, но он вспоминал с удовольствием о критических опытах своего юношества, особенно об оценке таланта Сарры Толстой, и любил говорить о них в кругу приятелей, как это видно из прилагаемых при сем двух его ко мне писем. Первое письмо, или скорее записка, получено мною 18-го октября 1856 года, в ответ на мое приглашение отобедать у меня, вместе с другими близкими и присными мне людьми, по поводу моего переселения из Москвы в Петербург. По тесноте моей квартиры, В. П. Боткин устроил обед у себя, в доме своего отца. Кроме самого хозяина, были Грановский, Кудрявцев, И. С. Тургенев, Кетчер, Катков, Леонтьев… (увы! этот список есть вместе и поминки умерших)… и несколько других лиц, еще живых и здравствующих. Вот, что писал Катков:
«Вменяю себе в особенную честь ваше любезное приглашение и с радостью им воспользуюсь, чтобы в кругу людей, равно нам близких, и вместе с ними выразить то глубокое уважение, которое всегда соединяло и будет соединять нас с вами. Кроме общего признания ваших заслуг и ваших нравственных качеств, для меня лично воспоминание о вас имеет еще особое значение: с ним соединено еще дорогое для меня воспоминание моей первой молодости. Где бы ни случилось нам встретиться, всегда дружески протянем мы друг другу руку и, я уверен, не изменимся никогда в нашем взаимном уважении и приязни».
Второе письмо (31 января 1858 г.) извещает меня, жившего уже в Петербурге, о смерти Кудрявцева:
«Простите меня, дорогой Алексей Дмитриевич, за мое молчание на ваш привет, который тронул меня до глубины души. Поверьте, ваше сочувствие, ваше доброе расположение и к моей деятельности, и ко мне лично, ценю высоко и вижу в том истинную для себя награду и утешение. Как вы знаете меня с давних пор, так точно и я помню вас с той самой поры, когда пробуждалась во мне мысль, и первые попытки её неразрывно связаны с воспоминанием о вас, о той доброте, том доброжелательстве, том благородном сочувствии ко всему молодому, свежему, нравственно-чистому, которые всегда отличали вас. Я не писал к вам просто потому, что был подавлен страшным грузом трудов, забот, горя. Выдалась же полоса! Бывали минуты, когда я приходил в совершенное отчаяние. С одной стороны – туча неблагоприятных и слухов, и предчувствий с севера[10 - Из Петербурга.], с другой – быстрое, ужасное угасание вашего Петра Николаевича[11 - Кудрявцева, профессора Московского университета.], а тут обычным потоком. ни на минуту не останавливающимся, дела, дела, дела, которые падали на меня всею своею тяжестью. Да! к потере Петра Николаевича трудно привыкнуть. Многого с его смертью не досчитаем мы в нашем капитале. Мне он был особенно дорог, как нравственная поддержка, по сходству многих заветных убеждений. Жизнь с каждым днем становится труднее и суровее.
Без сомнения, вы имеете все право участвовать в издании сочинений Кудрявцева и в составлении его биографии[12 - Намерение это тогда не осуществилось.]. Мне, кажется, эту последнюю обязанность могли бы разделить вы с Павлом Михайловичем[13 - Леонтьевым, профессором Московского университета.], который если еще не писал, то на-днях будет писать к вам. Воспоминаний ваших ждем с нетерпением[14 - Воспоминания о Кудрявцеве («Русский Вестн.», 1858 г., т. XIII, № 4).].
За статью вашу о Лермонтове, приношу вам сердечную благодарность[15 - Лермонтов, 3 статьи (ibid., 1858 г., т. XVI, No№ 13, 14 и 16).]. Я считаю ее одним из лучших приобретений журнала. Мне было дорого и отрадно видеть то доверие, с которым вы отдавали ее мне, но говорю вам откровенно и по чистой совести, что я не встретил в ней ни одной мысли, в которой не был бы согласен с вами. Я буду печатать ее не просто, как прекрасную статью, но и как статью совершенно мне сочувственную. Жду с нетерпением второй половины.
Какое снова тяжкое испытание наступает для литературы! Сколько опять накипает на душе самых мрачных чувствований! Скажите, что выйдет из этих колебаний, из этих затягиваний и отпущений, и опять затягиваний, из этого вечного поддразниванья? И когда же? в то время, как, по-видимому, единственная и существенная поддержка П-ву[16 - Правительству. Разумеются цензурные строгости тогдашнего времени.] представляется лишь в свободном развитии мысли и слова. Напрасно суемся мы с нашими сочувствиями: нас отталкивают презрительнейшим образом. Так и быть! Будем ждать, что Бог даст.
Вы пишете, что в мае будете в Москве. Заранее радуюсь этому и надеюсь, что будем гораздо чаще видаться, нежели прошлое лето. Обнимаю вас от всей души.
СПИСОК
статей М. H. Каткова в „Отечественных Записках“ 1839 и 1840 годов[17 - Все статьи, как в отделе «Критики», так и в отделе «Библиографической Хроники», по условию, положенному редакцией журнала, без подписи авторов. Но я вел обстоятельные списки книг, подлежащих рассмотрению, с обозначением какие из них поступали ко мне, Белинскому, Каткову и Кудрявцеву. Эти списки сохраняются у меня в целости.].
А. Статьи в отделе критики. 1839 года.
1. „Песни Русского народа“, собранные Сахаровым (т. IV, стр. 1-24, 25-92).
2. „Основания Русской стилистики“, Зиновьева (т. VI, стр. 47-64).
1840 года.
3. (История древней Русской Словесности», Максимовича, книга 1 (т. IX, стр. 37-72).
4. «Сочинения в стихах и прозе», гр. Сарры Толстой, перевод с немецкого и англ. (т. XII, стр. 15-50).
Б. Статьи в Библиографической хронике. 1839 года.
5. «Очерки с лучших произведений живописи, ваяния и зодчества», издание Тромонина, 2 выи. (т. V, стр. 62 и 153).
6. «Практическая перспектива», соч. Ястребцова, ч. I (ibid., стр. 64).