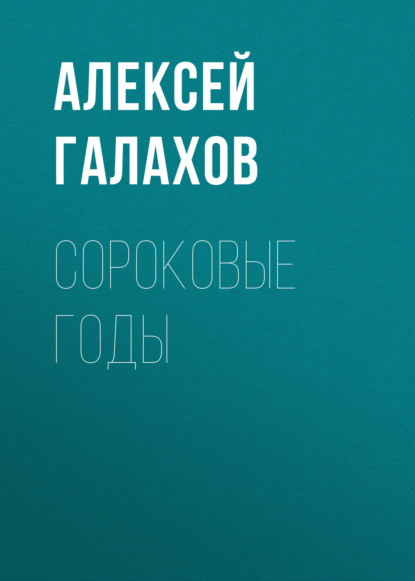По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сороковые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чуть-чуть не коммунист,
Удав для подчиненных,
Перед П-м[14 - Начальник ведомства, в котором служил А-в.] – глист,
Само собою разумеется, такими ядовитыми посланиями наживаются непримиримые враги. Действительно, автор и охарактеризованная им личность сошлись только чрез многие лета: один – с извинением, другой – с прощением обиды.
Отзывы Тургенева о лицах и литературных произведениях выказывают его остроумие меткое и в то же время изящное. Приведу один пример. Узнав, что один из наших талантливых поэтов вместо прежней своей фамилии, с которой уже соединена была его известность, принял другую, он заметил: «Какая жалость! у этого человека было имя, а он променял его на фамилию». Кстати приведу появившееся на этот случай четверостишие:
Как снег вершин,
Как фунт конфект,
Исчезнул…
И стал….н
Что Тургенев искони и неизменно принадлежал к западникам, что идеалом нашего интеллектуального и политического развития долженствовала, по его убеждению, неизбежно служить Западная Европа, нет ни малейшего сомнения. Это доказывается его спорами с московскими славянофилами, которые, не смотря на несогласие с ним во взглядах, уважали его высокий талант, но еще более его сочинениями, особенно романом «Дым». Беру из него для примера одно место. Прощаясь с Литвиновым, возвращающимся в Россию, Потугин дает ему следующий напутственный совет: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации, в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из её идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так – идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше благое». Ясно, что, по мнению Потугина (или Тургенева), следование по стопам Западной Европы есть sine qua non русского преуспеяния во всех отношениях.
Не помню, кто, где и когда (кажется, г. Марков в газете «Голос» пятидесятых годов) видел причину элегического настроения Тургенева в страхе его при мысли о неизбежной смерти. Настоящее время выразилось бы таким образом, что Тургенев был «пессимист». Действительно, некоторые места его произведений оправдывают такое мнение. Вот, например, какие мысли, говоря его словами, приходили ему на ум в небольшом рассказе «Поездка в Полесье (1857): «Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается один и тот же голос: «мне нет до тебя дела», – говорит природа человеку, – «я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». «При виде неизменного, мрачного бора глубже и неотразимее, чем при виде моря, проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях». Одно из «Стихотворений в прозе», под названием «Природа», подтверждает высказанный взгляд.
Некоторые читатели и критики осуждали Тургенева за отсутствие нравственных принципов, идеала. Это несправедливо и обличает малое внимание читающих. Напротив, у него явственно выражалась высочайшая цель человеческой жизни – альтруизм, любовь к ближним. Почетнейшим титулом каждому из нас служит слово «добрый». «Да», – говорит он в заключении своего прекрасного этюда (Гамлет и Дон-Кихот), «одно это слово имеет еще значение перед лицем смерти. Все пройдет, все исчезнет; высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, – все рассыплется прахом. Но добрые дела не разлетятся дымом: они долговечнее самой сияющей красоты; все минется, сказал Апостол, одна любовь останется». Прибавлю к этому еще заключительные слова к рассказу о долгом споре университетских товарищей – Лаврецкого и Михалевича. «А ведь он, пожалуй, прав», – думал Лаврецкий, возвращаясь в дом. Затем Говорит автор, т. е. Тургенев: многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может. Этим взглядом объясняется предпочтение, оказанное Тургеневым Дон-Кихоту, в сопоставлении последнего с Гамлетом: «он живет не для себя, а вне себя, для других; идеал его – истребление зла, водворение истины и справедливости на земле; чтобы достигнуть этой цели, он готов на всевозможные жертвы».
Но не даром говорится: «и в солнце, и в луне есть темные пятна». Выли такие пятна и в прекрасной личности Ивана Сергеевича. Наиболее заметные из них обнаруживались в слабоволии, легкомыслии, неустойчивости. Близкие к нему москвичи откровенно замечали ему этот недостаток. Н. X. Кетчер нередко говаривал ему: «ты ростом с слона, а душа у тебя с горошину»; В. П. Боткин величал его «Митрофаном». Может быть, отсутствие твердой воли объясняется его дряблым темпераментом, рыхлым телосложением. Этот великорослый человек говорил голосом отрока, часто жаловался на нездоровье и завидовал людям крепким, которые обладали неизменным аппетитом и надлежащим пищеварением. Холеры боялся он паче всего и немедленно бежал из тех мест, куда она направлялась. Вот один из примеров, подтверждающих вышесказанное. Тургенев был коротко знаком с известной писательницей Евгенией Тур, относился с большой похвалой о её романе «Племянница» и даже вызвался написать разбор его. Так было в Москве, но не так вышло в Петербурге, среди издателей «Современника», которые не жаловали автора «Племянницы»: под их внушением критическая статья вовсе не отвечала тому, что критик говорил в Москве. Иногда, Бог знает почему, Typгенев высказывал мнение, прямо противоположное тому, что он действительно думал. К числу таких выходок принадлежит его отзыв о предприятии П. В. Анненкова издать сочинения Пушкина, приведенный г-жею Головачевой-Панаевой в её «Воспоминаниях»: Анненков ни с того, ни с сего обзывается кулаком, круглым невеждой, а изданию его предсказывается позор; Некрасову же делается выговор, что он упустил случай взять на себя издание. Все это не согласно с настоящею мыслью Тургенева: он отлично знал, что Некрасов, хотя и крупный поэтический талант, не мог по своему недостаточному образованию удовлетворительно исполнить предприятие, тогда как Анненков, хотя и не поэт, но обладавший метким поэтическим чувством и надлежащими знаниями, сумеет удовлетворить ожидания публики, что он действительно и сделал, приложив к изданию «Материалы» для биографии Пушкина. Зачем же он говорил против своего убеждения? Да так – ни с того, ни с сего. Иногда, – что греха таить? – он и о себе, и о других, рассказывал небывальщину, почему Белинский и называл его импровизатором. Далее, Тургенев не жаловал Добролюбова за «Свисток» (в «Современнике»), направляемый безразлично одесную и ошую, на хорошее и дурное. Я помню, что на обеде у одного из офицеров генерального штаба он укорял его за отсутствие идеалов в суждениях о литературе, что дурно действовало на молодежь, а в одном из заседаний комитета литературного фонда он напал на Кавелина за его сочувствие к «Свистку»: «Нашего брата в грязь топчат (выговаривал он ему), а вы хохочете и своим хохотом одобряете безобразие». Но в других подобных тому явлениях Тургенев оставался молчалив и равнодушен, как бы потакая им или даже поощряя их своим равнодушием. Наконец, более и более редкое появление его на Руси, более и более сильное стремление за границу, преимущественно во Францию, а здесь преимущественно в семейство Виардо, вместе с неясностью его отношений к лицам разных политических и социальных учений, смущало его почитателей и отчуждало его от единоземцев. Конечно, он любил Россию, но уже любил ее издалека, не быв свидетелем, что с ней делается за последнее время его жизни. Неуспех его романа «Новь» обнаружил невозможность изображать новые движения народной жизни заочно, по слухам или газетам[15 - По выходе этого романа явилась следующая эпиграмма:Твердят, что новь родит сторицей;Но видно плохи семена,Иль пересохли за границей:В романе «Новь» – полынь одна.]. На ряду с его знаменитостью стали имена Достоевского и графа Д. Н. Толстого, а в настоящее время и превысили ее, судя по журнальным отзывам. Заметим, однако-ж, что Тургенев и за границей оказал несомненную услугу нашей поэзии, познакомив с нею французов и раскрыв им существенное её свойство, состоящее в том, что она имеет своим предметом и целью – правду жизни.
V
С Николаем Федоровичем Щербиной познакомился я в конце пятидесятых годов в Петербурге. Он часто посещал мое семейство по четвергам в день, назначенный для приятелей и знакомых. Каждый приход его был праздником для наших гостей, так как он угощал их произведениями своей сатирической музы, имевшей в виду преимущественно пишущую братию. К. Д. Кавелин помирал со смеху, слушая сочиненное им на славянском диалекте «Сказание о старце Михаиле»[16 - М. П. Погодин.]. Впечатлению не мешал даже природный недостаток автора – заикание: напротив, оно сообщало особую оригинальность рассказчику, который сохранял полнейшую серьезность. Случалось, что у него экспромтом являлись эпиграммы на некоторые знакомые лица, и плодом такого внезапного вдохновения он тотчас делился с присутствующими. Таково, например, четверостишие на Л-ва, преподавателя математики в военно-учебных заведениях, занимавшагося, кроме того, философией и даже покушавшагося занять кафедру этого предмета в С.-Петербургском университете:
Он Пилат студентской дружбы[17 - Относится к тогдашним сходкам и волнениям студентов.],
Он философ наших лет,
Он полковник русской службы,
Русской мысли он – кадет.
Кто знал Л-ва, тот вполне признает меткость и верность последнего стиха.
Вот характеристика одного из поэтов, или, вернее, поэтиков: «это – благонамеренная, прогрессивная в гуманном и социалистическом направлении посредственность; это – канарейка, поющая с органчика социализма
пауперизма, гуманизма, прогресса, – канарейка, постоянно верная в начале принятому ею камертону». Нередко приходилось ему в гостях схватывать что либо забавное и тут же выражать его оригинальным образом. Однажды, сидя на диване, он облокотился на шитую подушку, очень туго набитую, жесткую: «это не подушка, сказал он, а «Путь ко спасению»[18 - Сочинение Федора Эмина.]. Заметив понижение деятельности одного из самых почтенных профессоров, он охарактеризовал его именем Новиковского журнала «Покоящийся трудолюбец». О сотрудниках «Москвитянина» сороковых годов (иначе «молодой редакции» этого журнала) он говорил: «это не славянофилы, а спиртофилы». Редакция не осталась в долгу:. она отвечала удачной эпиграммой. Зашла как-то речь о привычке редактора одного из лучших журналов ежедневно гулять по Невскому проспекту в 8 или 9 часов утра. «Неправда, – возразил Щербина:– он гуляет лишь в те дни, когда камердинер ему докладывает, что в воздухе пахнет пятиалтынным». Всем известно его стихотворение к тени Булгарина, с просьбой решить, кто из двух тогдашних литераторов продажней и подлей. Особенно забавен был рассказ Щербины о том состоянии, в каком он обретался на вечерах у одной писательницы-поэтессы, любившей читать произведения пера своего. Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова на кресло…
Дорожа талантом привлекать внимание слушателей своими рассказами, Николай Фодорович имел слабость завидовать тем, которые могли состязаться с ним, а иногда и превосходить его в том же искусстве. Однажды, среди разгара его сатирического красноречия, посетил нас И. А. Гончаров, воротившийся из своего путешествия. Разумеется, он заполонил внимание гостей любопытным рассказом о виденных им странах, так что Щербина, как говорят теперь, стушевался. Я взглянул на него: он был печален и вскоре ушел.
При выдающейся наклонности к сатире, Щербина обладал верным чувством изящного, что и доказал как оценкой появлявшихся произведений наших поэтов, так и собственными стихотворениями, которые не были заурядными. но выдавались и внешней формой, и чувством или мыслью. Автор их действительно принадлежал к числу мыслящих и по взглядам своим склонялся всего более к славянофилам. Он преследовал каждого прогрессиста, который восхищается всем новым, потому только, что оно ново, и который выставлен на посмешище словами поэта:
«Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет».
Щербина уважал предание и ценил лишь тот прогресс. который совершается на основании историческом, без разрыва с прошлым. На этом пункте он разделял взгляды Хомякова, Аксакова и Киреевского. Свидетельством этого, между прочим, служит изданная им книга: «Пчела», т. е. сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении. Самое название напоминает древне-русскую литературу. Содержание книги расположено по важнейшим предметам любознательности и душевной пользы русского человека, коренные стихии которого сохранились среди простого народа. Книга состоит из четырех отделов, и один из них «общеславянский», заключающий в себе сведения о славянах вообще, о Кирилле и Мефеодии, некоторые песни болгар, сербов, словаков, чехов.
VI
Кудрявцев (Петр Николаевич), по характеру и образованию, не походил ни на своих друзей и одномысленников, ни на лиц другого направления. Он чтил в особенности Грановского, который, с своей стороны, относился к нему с любовью и уважением; он состоял также в неизменно дружеских отношениях к Каткову и Леонтьеву, но вместе с тем отличался от них, в свою пользу, существенными качествами. Это была личность исключительная, человек-особняк.
Одаренный врожденным изяществом, он еще с детства выступал из среды своих сверстников, привлекая к себе мягкостью нрава, пристойностью обращения, какой-то степенностью или серьезностью. В нем не было ничего резкого, порывистого, безразсудного, свойственного почти всем его сверстникам, или, по крайней мере, большинству их. Рано лишась матери, он в отце своем, священнике Даниловского монастыря (в Москве), нашел умное и попечительное о себе радение, в котором долг отца совмещался с нежною любовью матери. Сын, платил ему тою же монетою.
В школе (духовной семинарии) он держал себя исключительно, вовсе не похоже на поведение своих товарищей. Учился он, разумеется, очень хорошо, но не в этом главное его отличие: важно то, что он не старался выказывать ни учителям, ни товарищам своих знаний. Он не был тем, что называется «выскочка»: спрашивал его преподаватель – он отвечал, не спрашивал – он не поднимал руки, по тогдашнему школьному обычаю, давая тем знать, что я, дескать, знаю урок, а товарищи мои не знают. Таким обычаем, может быть, и поощряется школьный успех, но в то же время развивается тщеславие, корыстное соревнование, из малых ребят готовящее взрослых членов общества, любящих подставлять ногу своим сослуживцам.
Чувство долга глубоко лежало в его душе. Как в собственном образовании на всех его ступенях он был исполнителен, так впоследствии и в своей педагогической практике он относился к своему делу серьезно, не дозволяя себе манкировать принятою на себя обязанностью или относиться к ней кое-как. В этом отношении он был истый «классик», тогда как его сослуживцы отличались «романтизмом», т. е. нередким отлыниваньем от уроков под разными предлогами»
Петр Николаевич принадлежал к натурам сосредоточенным. Он не любил распахиваться не только перед незнакомыми, но даже и перед людьми ему близкими, чем капитально отличался от москвичей, падких на сближение с новыми лицами, легко переходящих от вежливого вы к бесцеремонному ты и лезущих с первого же визита на дружбу или даже в родство. Он знал, чем большею частию оканчивалось такое быстрое, закадышное знакомство. Происходило это у него не от застенчивости или нелюдимства, а от того, что он дорожил своими задушевными связями и сходился лишь с такими личностями, которые были ему по плечу в отношении двоякого ценза – образовательного и нравственного.
Вследствие такой прирожденной замкнутости внутренний мир Петра Николаевича туго поддавался точной характеристике. Один из повествователей среднего разряда вывел его в каком-то рассказе, который и отправил к Белинскому, прося его выразить свое мнение. «Вы напрасно, мой милый, – отвечал ему критик, – воображаете, что личность Кудрявцева может быть легким сюжетом для психического анализа: ее надобно узнать да узнать, а это не скоро дается». Жалко, что такой умный человек, как П. В. Анненков, не познакомившись с Кудрявцевым обстоятельней и увидев его впервые у Белинского, назвал выражение лица его «каменным»[19 - Воспоминания и критические очерки, отдел III, стр. 134.]. Он сильно ошибся: трудно было найдти человека, который бы принимал более живое участие в горе, постигавшем не только его друзей, но и простых знакомых. Все, сходившиеся с Петром Николаевичем, никогда не расходились с ним.
С первых шагов самопознания (а это началось очень рано, чуть ли не в отрочестве) Кудрявцев стал запасаться негодованием на косность ума и нравственного совершенствования, на стеснение разумной воли, стремящейся к лучшему устройству жизни. Иначе и быть не могло, принимая в соображение даровитость субъекта и коренные отличия того сословия, к которому субъект принадлежал по рождению. Сословие это обреталось под строгой дисциплиной высших своих членов. Примеры такой безусловной подчиненности Кудрявцев легко мог видеть на своем отце, переносившем те или другие стеснения, а также и в школе, где первоначально обучался. Вот почему, снисходительный и гуманный, он был неуступчив, когда дело шло о покушениях на образ мыслей, на идеи и принципы. В семействах того сословия, о котором здесь говорится, он встречал также примеры тяжелого ярма. Родные и двоюродные сестры Петра Николаевича горячо любили его, находя в его обхождении с ними прямую противоположность с обхождением других членов семьи: отцев, братьев, мужей. Со стороны его неизменная снисходительность и любовь, со стороны других вкоренившийся обычай брутального отношения силы к слабости. Незавидная участь одной из его родственниц изображена им в повести: «Без рассвета».
Из того же источника, т. е. из сочувствия к притесняемым, происходила в его ученых занятиях особенная наклонность к судьбам национальностей, находившихся под чужеземным гнетом. Такова была судьба тогдашней Италии, истории которой он посвятил первый свой труд[20 - Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановлния её Карлом Великим.]. Так называвшийся тогда «италианский вопрос» стал его любимою темою, а всецелое возрождение Италии твердым убеждением. На это возрождение смотрел он, как на торжество исторической правды. Но, будучи врагом всяких насильственных распоряжений и непрошенного чуждого вмешательства, он хотел бы предоставить самому народу устройство его судьбы. По его мысли, Италия могла быть способною на это при более благоприятных обстоятельствах, и потому он стоял на стороне того мнения, которое выражалось поговоркой: «Италия управится сама собой» (tara da se).
По возвращении его из-за границы (1846 г.), замечали в нем какое-то меланхолическое настроение и объясняли это частию его нездоровьем, частию чувством скрываемой любви. Допуская в известной мере действие этих причин, следовало бы не за~ бывать третьей, более разумной причины: то была благородная туга сердца при сознании разлада между текущею жизнию и разумными началами иной, лучшей жизни. Его тяготили в особенности те из современных событий, которые и у нас, и за границей обращали вспять успехи цивилизации. При таком положении дел не мудрено было терять веру в разумный прогресс. Но в столетний юбилей Московского университета (1855 г.) Петр Николаевич заметно повеселел. Это было не без причины. Почет, оказанный в лице старейшего из наших университетов науке и служителям её, прояснил его душу и лице, ободрил его. Он мирил его с тяжелою памятью прошлого во имя надежды и доверенности к будущему. Вслед за Грановским выдвигался и он на ученое поприще. Оба они привлекали к себе любовь учащейся молодежи и внимание развивавшагося общественного мнения. Имена их становились рядом по благородству направлений. И, когда Грановский преждевременно сошел в могилу, Петр Николаевич, по всем правам, заступил его место в университете и в сердцах слушателей: он достойно держал кафедру на высоте, поставленной покойным профессором, его наставником, товарищем и другом. Учащаяся молодежь никого так не любила, как этих двух преподавателей истории, потому что видела в их обращении благосклонность к себе и искреннее желание пользы. И Кудрявцев и Грановский допускали к себе студентов по воскресеньям, беседовали с ними о новых сочинениях по предмету истории и даже снабжали их книгами из своих библиотек. Другие профессоры, тоже достойные во всех отношениях, осуждали такой обычай, находя, что он отнимает у них время, нужное для их собственных трудов или отдыха, и притом слишком сближает учащих и учащихся, дает последним поблажку в обращении. Может статься, и есть в этих словах известная доля правды, но когда вспомнишь, что вслед за Грановским занимали кафедру истории такие лица, как Кудрявцев, Ешевский, Герье, то отнесешься к принятому обычаю с великим уважением и благодарностью.
Стойкость убеждений соединялась в нем с удивительным благодушием. В нем не было ни малейшего упрямства или грубости, которым часто подвержены личности прямые и честные, но в то же время неприятно отталкивающие от себя манерами своего обхождения, как бы из желания выказать себя Катонами. Петр Николаевич от природы чуждался такого катонства: он был образцом снисходительности в кругу личных отношений, отчего и пользовался не только горячей привязанностью своих единомышленников, но и уважением тех, которые думали иначе. До какой степени доходила его гуманность по отношению к личности, на какой бы ступени общества таковая ни стояла, можно судить по следующему факту. В первый год своего супружества он проводил лето в Останкине, подмосковном имении графа Шереметева. Однажды, после вечернего чая, бывшие у него в гостях короткие знакомые отправились гулять. Отошедши недалеко от дачи, супруга его вспомнила, что она забыла взять с собою ключи от комода, в котором хранились деньги и некоторые ценные вещи. Не надеясь на честность своей прислуги, она просит Петра Николаевича вернуться и принести ключи. «Как же, мой друг, теперь это сделать? – возразил он:– ведь это не ловко, совестно». К этим словам нечего прибавлять. Петр Николаевич скорее согласился бы лишиться денег, чем оскорбить прислугу подозрением, может быть, незаслуженным.
Во взгляде Петра Николаевича на мироустройство проглядывал пессимизм. Он часто видел. в жизни действие слепого случая, бессмысленных сил, губящих человека без надежды на исцеление. Ужасная болезнь жены и неожиданная смерть её во цвете лет поразила его. Он спрашивает себя в недоумении: «что это такое – слепой случай или наказание, имеющее какой либо смысл? Если это неразумная сила, то откуда в ней столько рассчитанной жестокости? а если она разумна, то как может быть столько жестокою?»… И затем прибавляет: «Нам ли хотеть обманывать себя? Дети ли мы, чтоб закрывать себе глаза на наши прирожденные немощи и на законы, над нами господствующие? Испытавши на деле их неумолимость, опять ли тешить себя розовыми теориями и на воздухе построенными мечтами?». Но еще прежде того, до своего несчастья, он думал также, что доказывается следующим местом в письме к одной из бывших его учениц. Выразив желание себе быстрой смерти, не предшествуемой никакой злостной болезнью, он останавливается и говорит: «Куда зашел я! как будто все это в нашей власти? как будто нет над нами судьбы, которая хотя и вовсе не дальновиднее нас, видит вперед менее нашего, однако по самой слепоте своей часто смешивает нас с деревьями и кремнями и вовсе неожиданно дает нам щелчки, от которых не устояло бы и крепкое дерево. Здесь упала она грозою и сожгла целое селение; там, на море, разыгралась она бурею и потопила целый корабль со всем его живым грузом, без разбора праведника от неправедника; там промчалась язвою, там пронеслась голодом, а вот, недавно еще, зашевелившись под землею, почти опрокинула вверх дном целый город – людей наравне с домами. Неужели она пошутила над ним с мыслью? Неужели с мыслью истребила она Лиссабон, сгладила с лица земли Помпею, залила Нидерланды и проч., и проч… Но, право, в такой мысли я ровно ничего не смыслю… и молчу».
VII
Всего персонала московских профессоров и литераторов ни с кем нельзя было так легко познакомиться, как с Михаилом Петровичем Погодиным. Это зависело от его общительности и простоты обращения, чуждого каких либо церемоний. Могло статься, что в этом свойстве отражалась и сущность сословия, к которому он принадлежал по рождению и которому неведомы осторожность и раздумье при завязывании знакомств. Другое похвальное свойство Погодина выказывалось в отношениях к лицам, высшим его по какому либо значению: он обращался с ними без боязни, говорил свободно, не понижая голоса, даже часто разноречиво с ними в обсуждении каких либо вопросов. И. И. Давыдов изумлялся такой отваге, особенно в то время, когда он вместе с другими лицами (в числе которых находился и Михаил Петрович) гостил у графа Уварова в его Тускулуме, тоесть селе Поречье: «Я не позволю себе, – говорил он, – обращаться так развязно с лицем, выше меня стоящим: как я могу забыть, что это лице – министр и мой начальник?» Так рассуждал выдающийся профессор, имевший уже генеральский чин и звезду. У него и на медной доске, прибитой ко входной двери, было вырезано: действительный статский советник Иван Иванович Давыдов.
С таким-то общедоступным человеком, как Погодин, я познакомился в первый год издававшагося им «Московского Вестника» (1827 г.). Я отъявился к нему с небольшой статейкой (под названием «Четыре возроста естественной истории»), чуждой содержания, т. е. научного интереса, но написанной не дурным стилем, под влиянием так называвшейся «павловщины», т. е. лекций М. Г. Павлова, любимого профессора, в физико-математическом факультете. В это же время я увидел и С. П. Шевырева, вместе с Погодиным жившего и работавшего для журнала.
Второй визит Погодину был сделан лет через пять после первого, в 1831 или 1832 году. В это время он жил на Мясницкой улице, в собственном доме, купленном у князя Тюфякина. Дом перестроивался или обновлялся по указанию нового владельца, к которому ввели меня по накладным доскам в верхний этаж: здесь он сидел в небольшой комнате, за маленьким столом, оглушаемый стуком плотничьих топоров и криком рабочих. Разговор наш по поводу издания альманаха «Сиротка» (1831 г.) в пользу малолетних, оставшихся без приюта по смерти их родителей от холеры и помещенных на время в доме Павла Павловича Гагарина, беспрестанно прерывался появлением рыжого мужика, может быть, подрядчика. «Что тебе надобно?» – спрашивал Погодин. – Пожалуйте гвоздей: все вышли. – «Каких тебе нужно: больших или средних?» – И тех и других. – «По скольку?» – По стольку-то. И Михаил Петрович, нисколько не смущаясь, в самом веселом и добром расположении духа, выдвигал ящик своего рабочего стола и отсчитывал требуемое число гвоздей. Тут я заметил, что на его месте я бы не стал доверяться подрядчику, помня пословицу: «красный – человек опасный». – «Нет, не беспокойтесь: я хорошо знаком с простым народом и по физиономия тотчас отличу плута от надежного, совестливого малого. Мой подрядчик в числе второго разряда».
Такою способностью совмещать две совершенно разнородные вещи: выдачу гвоздей плотникам и изложение на бумаге своих мыслей, некоторые, шутки ради, объясняли происхождение излюбленных Погодиным афоризмов. В самом деле, часто отрываемый от письма приходом подрядчика, он был вынужден ставить точки там, где фраза еще не оканчивалась: отсюда крайне несвязная речь, совершенно противоположная периодическому строю. Но это не афоризмы, которые выражают известные мысли, хотя и в немногих словах, но ясно, определенно и связно. У Михаила Петровича не то: y него, сплошь и рядом, предложения обходятся без подлежащих и сказуемых и, однако-ж, каждое замыкаются точкой. Это скорее – лаконизмы, оригинальные по своему строю, выходящие за пределы надлежащей краткости. Вот несколько образчиков: «Известие о болезни батюшки. Туда. Умер» (т. е, получил известие о болезни отца. Надобно ехать к нему, но уже поздно; батюшка уже скончался). «В университет. С Кубаревым мимо Снегирева. Все гусем к Уварову». «Скучная лекция. Хандра. Для рассеяния к Аксаковым. Анекдоты Пущина о Павле и Суворове. В бостон»[21 - Жизнь и труды М. П. Погодина.]. Читателей поражала такая форма и давала повод к пародиям. Наиболее удачная вышла под псевдонимом Ведрина (Герцена). Граф Строгонов, прочитав ее, заметил: «Будьте уверены, господа, что Михаил Петрович сочтет ее своим собственным произведением». В похвалу Погодину необходимо прибавить, что он не сердился на подобные выходки и даже смеялся, если пародия выходила забавною. Но отзывы о книге: «Год в чужих краях» (1844), огорчили его. Один из них, написанный Н. А. Полевым, помещен в петербургском журнале, в каком именно не припомню; другой, явившийся в «Отечественных Записках»[22 - 1844 года, № 9.], принадлежит мне. Каюсь искренно и сильно в этом проступке. Что делать? Тогда он считался делом похвальным, обязательным, услугой известному направлению. Всему виною литературнал партия. Погодин, видите ли, принадлежал к славянофилам, a сотрудники «Отечественных Записок», где я постоянно участвовал, к западникам: отсюда гнев и немилость. Погодин принес на лекцию обе статьи. Он начал ее изложением своих трудов по истории, литературе, изданию журналов, и затем прочел наиболее выдающиеся места рецензий, где он подвергался глумлению. Чтение закончилось таким выводом: «Вот, милостивые государи, что я выслужил за мои многолетние труды! Вот как y нас награждается честная, добросовестная деятельность!»
Приведу остроумную заметку Хомякова об одном рассказе Погодина из его заграничной поездки. Приехав на какую-то станцию с своей супругой, путешественник заказал выпускную яичницу и жареную курицу. Он думал, что остановка будет такая же продолжительная, как на наших железных дорогах. Вдруг раздается звонок. Яичница была уже скушана, a курица осталась до следующей остановки. Обо всем этом Михаил Пе-трович счел нужным довести до сведения читателей. При свидании с ним Хомяков начал пенять ему: «Как тебе не совестно, любезный друг, потчивать публику такими пустяками! Какой интерес в том, что вы скушали выпускную яичницу, а жареную курицу взяли с собой? Вот если бы вы курицу скушали, а выпускную яичницу взяли с собой, это другое дело, этим следовало бы поделиться с публикой».
Погодин принадлежал к разряду людей неробких. Отважность свою он, между прочим, доказал вызовом Костомарова на ратоборство по вопросу о происхождении Руси, для чего и приехал в Петербург. Известно, что в своей магистерской диссертации (1825) Погодин ведет Русь от племени норманского, обитавшего в нынешней Швеции. Костомаров, через 35 лет, именно 1860 года, в брошюре «Начало Руси», доказывает, напротив, что славяне призвали князей из Руси литовской (иначе Жмуди, жившей на берегу реки Руси). Решаясь на состязание, Погодин, разумеется, не мог льстить себя надеждой на успех: он знал, что Костомаров пользуется особенною любовью своих слушателей, которые не дадут его в обиду, а поддержат его своим сочувствием и аплодисментами. Зрелище вышло интересное и знаменательное, усложненное особыми обстоятельствами того времени (т. е. польскими волнениями).
Ареною для состязания отведена была огромная зала в университете. Поставили в ней две кафедры, одну против другой, чтобы ратоборцы могли ясно слышать обоюдные возражения и опровержения. Зрителей ожидалось не мало, почему П. В. Анненков и я поторопились приходом и заняли очень удобные места на первой скамье, у самой кафедры, назначенной для Погодина. Третьим присоединился к нам И. И. Срезневский. Вот как отлично устроились! – подумали мы:– будем лицезреть Погодина, хотя не en face, а в профиль, ни одного словечка его не пророним и, кроме того, в случае какого либо казуса, найдем покровительство в нашем соседе, профессоре. Но надежда наша оказалась преждевременной. Едва мы уселись, как человек двенадцать студентов, рослых и бравых юношей, по два в ряд промаршировали к кафедре и расположились у ней с трех сторон, так что мы могли только слышать Погодина, но не видеть его. Другая дюжина студентов точно также расположилась у кафедры Костомарова.
Во время диспута обнаружилось, что обе дюжины имели своим назначением подавать сигналы товарищам, поместившимся на хорах, когда и кому именно надлежало рукоплескать или шикать. Случалось, что вестовые, не расслышав или не поняв, о чем идет дело, давали сигналы не впопад, и затем били отбой. Это смешило зрителей, невольно вспоминавших поговорку: ordre, contre-ordre, dеsordre.
В числе лиц, пришедших на диспут, было немало поляков, которым, конечно, было лестно удостовериться, что наши первые правители были литовцы.
На третьей или четвертой скамье сидели два офицера генерального штаба, польского происхождения. Один из них (С…….) с бумагой в руке тщательно записывал ход диспута, чтобы потом, в газетном фельетоне, пробить в набат победу, одержанную Костомаровым. Впрочем, последнему доброжелательствовали не одни поляки и малороссы, но и великороссы. Профессору Казанского университета г. Буличу, находившемуся в это время в Петербурге, пришлось сидеть рядом с одним почтенных лет помещиком, который до того увлекся симпатией к Костомарову, что, не стесняясь, в слух выражал ему одобрение, а противнику его порицание. Когда Погодин прервал объяснения Костомарова каким-то замечанием, помещик не вытерпел и, обращаясь к кафедре Погодина, заговорил: «ты погоди отвечать; ты прежде выслушай возражения».
Чем же кончился диспут?… К нам подошел князь П. А. Вяземский с следующим остроумным замечанием: «говорят, что мы прогрессируем в науке, но едва ли это справедливо; сегодняшний диспут доказывает противное: прежде мы хоть не знали, куда идем, но за то знали, откуда идем; а теперь не знаем ни того, ни другаго».
Кроме того, в одном из сатирических изданий явилась забавная каррикатура, как бы выражающая результат прения: под портретами трех князей: Рюрика, Синеуса и Трувора, красуется подпись: «не помнящие родства». Наконец, в, газете «Голос», помнится, г. Бергольц доказал всю несостоятельность лингвистических доводов Костомарова в пользу мнения о призвании славянами князей из Руси литовской.
VIII
Несколько лет сряду вакационное время (три месяца) проводил я в одной из прекрасных окрестностей Москвы – в селе Покровском, принадлежавшем Глебову-Стрешневу, который и сам переезжал сюда из города на четыре-пять месяцев. Рядом с нашей дачей помещалось почтенное, всеми уважаемое семейство Сергея Михайловича Соловьева, профессора русской истории в Московском университете. Воспоминание о знакомстве и беседах с ним доставляет мне и теперь душевную радость, омрачаемую печальною мыслью о том, что это было, а теперь этого нет.
Я был знаком с отцем Сергея Михайловича, священником в московском коммерческом училище, где он преподавал Закон Божий. Из разговоров с этим образованным и добрейшим служителем церкви я узнал много интересных фактов об отношениях белого духовенства к своему начальству, трудно совместимых с истинным гуманизмом и естественно возбуждавших неудовольствие и тайный ропот. Впоследствии сын его подтвердил справедливость рассказов и сетований своего отца.
Удав для подчиненных,
Перед П-м[14 - Начальник ведомства, в котором служил А-в.] – глист,
Само собою разумеется, такими ядовитыми посланиями наживаются непримиримые враги. Действительно, автор и охарактеризованная им личность сошлись только чрез многие лета: один – с извинением, другой – с прощением обиды.
Отзывы Тургенева о лицах и литературных произведениях выказывают его остроумие меткое и в то же время изящное. Приведу один пример. Узнав, что один из наших талантливых поэтов вместо прежней своей фамилии, с которой уже соединена была его известность, принял другую, он заметил: «Какая жалость! у этого человека было имя, а он променял его на фамилию». Кстати приведу появившееся на этот случай четверостишие:
Как снег вершин,
Как фунт конфект,
Исчезнул…
И стал….н
Что Тургенев искони и неизменно принадлежал к западникам, что идеалом нашего интеллектуального и политического развития долженствовала, по его убеждению, неизбежно служить Западная Европа, нет ни малейшего сомнения. Это доказывается его спорами с московскими славянофилами, которые, не смотря на несогласие с ним во взглядах, уважали его высокий талант, но еще более его сочинениями, особенно романом «Дым». Беру из него для примера одно место. Прощаясь с Литвиновым, возвращающимся в Россию, Потугин дает ему следующий напутственный совет: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации, в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из её идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так – идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше благое». Ясно, что, по мнению Потугина (или Тургенева), следование по стопам Западной Европы есть sine qua non русского преуспеяния во всех отношениях.
Не помню, кто, где и когда (кажется, г. Марков в газете «Голос» пятидесятых годов) видел причину элегического настроения Тургенева в страхе его при мысли о неизбежной смерти. Настоящее время выразилось бы таким образом, что Тургенев был «пессимист». Действительно, некоторые места его произведений оправдывают такое мнение. Вот, например, какие мысли, говоря его словами, приходили ему на ум в небольшом рассказе «Поездка в Полесье (1857): «Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается один и тот же голос: «мне нет до тебя дела», – говорит природа человеку, – «я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». «При виде неизменного, мрачного бора глубже и неотразимее, чем при виде моря, проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях». Одно из «Стихотворений в прозе», под названием «Природа», подтверждает высказанный взгляд.
Некоторые читатели и критики осуждали Тургенева за отсутствие нравственных принципов, идеала. Это несправедливо и обличает малое внимание читающих. Напротив, у него явственно выражалась высочайшая цель человеческой жизни – альтруизм, любовь к ближним. Почетнейшим титулом каждому из нас служит слово «добрый». «Да», – говорит он в заключении своего прекрасного этюда (Гамлет и Дон-Кихот), «одно это слово имеет еще значение перед лицем смерти. Все пройдет, все исчезнет; высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, – все рассыплется прахом. Но добрые дела не разлетятся дымом: они долговечнее самой сияющей красоты; все минется, сказал Апостол, одна любовь останется». Прибавлю к этому еще заключительные слова к рассказу о долгом споре университетских товарищей – Лаврецкого и Михалевича. «А ведь он, пожалуй, прав», – думал Лаврецкий, возвращаясь в дом. Затем Говорит автор, т. е. Тургенев: многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может. Этим взглядом объясняется предпочтение, оказанное Тургеневым Дон-Кихоту, в сопоставлении последнего с Гамлетом: «он живет не для себя, а вне себя, для других; идеал его – истребление зла, водворение истины и справедливости на земле; чтобы достигнуть этой цели, он готов на всевозможные жертвы».
Но не даром говорится: «и в солнце, и в луне есть темные пятна». Выли такие пятна и в прекрасной личности Ивана Сергеевича. Наиболее заметные из них обнаруживались в слабоволии, легкомыслии, неустойчивости. Близкие к нему москвичи откровенно замечали ему этот недостаток. Н. X. Кетчер нередко говаривал ему: «ты ростом с слона, а душа у тебя с горошину»; В. П. Боткин величал его «Митрофаном». Может быть, отсутствие твердой воли объясняется его дряблым темпераментом, рыхлым телосложением. Этот великорослый человек говорил голосом отрока, часто жаловался на нездоровье и завидовал людям крепким, которые обладали неизменным аппетитом и надлежащим пищеварением. Холеры боялся он паче всего и немедленно бежал из тех мест, куда она направлялась. Вот один из примеров, подтверждающих вышесказанное. Тургенев был коротко знаком с известной писательницей Евгенией Тур, относился с большой похвалой о её романе «Племянница» и даже вызвался написать разбор его. Так было в Москве, но не так вышло в Петербурге, среди издателей «Современника», которые не жаловали автора «Племянницы»: под их внушением критическая статья вовсе не отвечала тому, что критик говорил в Москве. Иногда, Бог знает почему, Typгенев высказывал мнение, прямо противоположное тому, что он действительно думал. К числу таких выходок принадлежит его отзыв о предприятии П. В. Анненкова издать сочинения Пушкина, приведенный г-жею Головачевой-Панаевой в её «Воспоминаниях»: Анненков ни с того, ни с сего обзывается кулаком, круглым невеждой, а изданию его предсказывается позор; Некрасову же делается выговор, что он упустил случай взять на себя издание. Все это не согласно с настоящею мыслью Тургенева: он отлично знал, что Некрасов, хотя и крупный поэтический талант, не мог по своему недостаточному образованию удовлетворительно исполнить предприятие, тогда как Анненков, хотя и не поэт, но обладавший метким поэтическим чувством и надлежащими знаниями, сумеет удовлетворить ожидания публики, что он действительно и сделал, приложив к изданию «Материалы» для биографии Пушкина. Зачем же он говорил против своего убеждения? Да так – ни с того, ни с сего. Иногда, – что греха таить? – он и о себе, и о других, рассказывал небывальщину, почему Белинский и называл его импровизатором. Далее, Тургенев не жаловал Добролюбова за «Свисток» (в «Современнике»), направляемый безразлично одесную и ошую, на хорошее и дурное. Я помню, что на обеде у одного из офицеров генерального штаба он укорял его за отсутствие идеалов в суждениях о литературе, что дурно действовало на молодежь, а в одном из заседаний комитета литературного фонда он напал на Кавелина за его сочувствие к «Свистку»: «Нашего брата в грязь топчат (выговаривал он ему), а вы хохочете и своим хохотом одобряете безобразие». Но в других подобных тому явлениях Тургенев оставался молчалив и равнодушен, как бы потакая им или даже поощряя их своим равнодушием. Наконец, более и более редкое появление его на Руси, более и более сильное стремление за границу, преимущественно во Францию, а здесь преимущественно в семейство Виардо, вместе с неясностью его отношений к лицам разных политических и социальных учений, смущало его почитателей и отчуждало его от единоземцев. Конечно, он любил Россию, но уже любил ее издалека, не быв свидетелем, что с ней делается за последнее время его жизни. Неуспех его романа «Новь» обнаружил невозможность изображать новые движения народной жизни заочно, по слухам или газетам[15 - По выходе этого романа явилась следующая эпиграмма:Твердят, что новь родит сторицей;Но видно плохи семена,Иль пересохли за границей:В романе «Новь» – полынь одна.]. На ряду с его знаменитостью стали имена Достоевского и графа Д. Н. Толстого, а в настоящее время и превысили ее, судя по журнальным отзывам. Заметим, однако-ж, что Тургенев и за границей оказал несомненную услугу нашей поэзии, познакомив с нею французов и раскрыв им существенное её свойство, состоящее в том, что она имеет своим предметом и целью – правду жизни.
V
С Николаем Федоровичем Щербиной познакомился я в конце пятидесятых годов в Петербурге. Он часто посещал мое семейство по четвергам в день, назначенный для приятелей и знакомых. Каждый приход его был праздником для наших гостей, так как он угощал их произведениями своей сатирической музы, имевшей в виду преимущественно пишущую братию. К. Д. Кавелин помирал со смеху, слушая сочиненное им на славянском диалекте «Сказание о старце Михаиле»[16 - М. П. Погодин.]. Впечатлению не мешал даже природный недостаток автора – заикание: напротив, оно сообщало особую оригинальность рассказчику, который сохранял полнейшую серьезность. Случалось, что у него экспромтом являлись эпиграммы на некоторые знакомые лица, и плодом такого внезапного вдохновения он тотчас делился с присутствующими. Таково, например, четверостишие на Л-ва, преподавателя математики в военно-учебных заведениях, занимавшагося, кроме того, философией и даже покушавшагося занять кафедру этого предмета в С.-Петербургском университете:
Он Пилат студентской дружбы[17 - Относится к тогдашним сходкам и волнениям студентов.],
Он философ наших лет,
Он полковник русской службы,
Русской мысли он – кадет.
Кто знал Л-ва, тот вполне признает меткость и верность последнего стиха.
Вот характеристика одного из поэтов, или, вернее, поэтиков: «это – благонамеренная, прогрессивная в гуманном и социалистическом направлении посредственность; это – канарейка, поющая с органчика социализма
пауперизма, гуманизма, прогресса, – канарейка, постоянно верная в начале принятому ею камертону». Нередко приходилось ему в гостях схватывать что либо забавное и тут же выражать его оригинальным образом. Однажды, сидя на диване, он облокотился на шитую подушку, очень туго набитую, жесткую: «это не подушка, сказал он, а «Путь ко спасению»[18 - Сочинение Федора Эмина.]. Заметив понижение деятельности одного из самых почтенных профессоров, он охарактеризовал его именем Новиковского журнала «Покоящийся трудолюбец». О сотрудниках «Москвитянина» сороковых годов (иначе «молодой редакции» этого журнала) он говорил: «это не славянофилы, а спиртофилы». Редакция не осталась в долгу:. она отвечала удачной эпиграммой. Зашла как-то речь о привычке редактора одного из лучших журналов ежедневно гулять по Невскому проспекту в 8 или 9 часов утра. «Неправда, – возразил Щербина:– он гуляет лишь в те дни, когда камердинер ему докладывает, что в воздухе пахнет пятиалтынным». Всем известно его стихотворение к тени Булгарина, с просьбой решить, кто из двух тогдашних литераторов продажней и подлей. Особенно забавен был рассказ Щербины о том состоянии, в каком он обретался на вечерах у одной писательницы-поэтессы, любившей читать произведения пера своего. Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова на кресло…
Дорожа талантом привлекать внимание слушателей своими рассказами, Николай Фодорович имел слабость завидовать тем, которые могли состязаться с ним, а иногда и превосходить его в том же искусстве. Однажды, среди разгара его сатирического красноречия, посетил нас И. А. Гончаров, воротившийся из своего путешествия. Разумеется, он заполонил внимание гостей любопытным рассказом о виденных им странах, так что Щербина, как говорят теперь, стушевался. Я взглянул на него: он был печален и вскоре ушел.
При выдающейся наклонности к сатире, Щербина обладал верным чувством изящного, что и доказал как оценкой появлявшихся произведений наших поэтов, так и собственными стихотворениями, которые не были заурядными. но выдавались и внешней формой, и чувством или мыслью. Автор их действительно принадлежал к числу мыслящих и по взглядам своим склонялся всего более к славянофилам. Он преследовал каждого прогрессиста, который восхищается всем новым, потому только, что оно ново, и который выставлен на посмешище словами поэта:
«Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет».
Щербина уважал предание и ценил лишь тот прогресс. который совершается на основании историческом, без разрыва с прошлым. На этом пункте он разделял взгляды Хомякова, Аксакова и Киреевского. Свидетельством этого, между прочим, служит изданная им книга: «Пчела», т. е. сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении. Самое название напоминает древне-русскую литературу. Содержание книги расположено по важнейшим предметам любознательности и душевной пользы русского человека, коренные стихии которого сохранились среди простого народа. Книга состоит из четырех отделов, и один из них «общеславянский», заключающий в себе сведения о славянах вообще, о Кирилле и Мефеодии, некоторые песни болгар, сербов, словаков, чехов.
VI
Кудрявцев (Петр Николаевич), по характеру и образованию, не походил ни на своих друзей и одномысленников, ни на лиц другого направления. Он чтил в особенности Грановского, который, с своей стороны, относился к нему с любовью и уважением; он состоял также в неизменно дружеских отношениях к Каткову и Леонтьеву, но вместе с тем отличался от них, в свою пользу, существенными качествами. Это была личность исключительная, человек-особняк.
Одаренный врожденным изяществом, он еще с детства выступал из среды своих сверстников, привлекая к себе мягкостью нрава, пристойностью обращения, какой-то степенностью или серьезностью. В нем не было ничего резкого, порывистого, безразсудного, свойственного почти всем его сверстникам, или, по крайней мере, большинству их. Рано лишась матери, он в отце своем, священнике Даниловского монастыря (в Москве), нашел умное и попечительное о себе радение, в котором долг отца совмещался с нежною любовью матери. Сын, платил ему тою же монетою.
В школе (духовной семинарии) он держал себя исключительно, вовсе не похоже на поведение своих товарищей. Учился он, разумеется, очень хорошо, но не в этом главное его отличие: важно то, что он не старался выказывать ни учителям, ни товарищам своих знаний. Он не был тем, что называется «выскочка»: спрашивал его преподаватель – он отвечал, не спрашивал – он не поднимал руки, по тогдашнему школьному обычаю, давая тем знать, что я, дескать, знаю урок, а товарищи мои не знают. Таким обычаем, может быть, и поощряется школьный успех, но в то же время развивается тщеславие, корыстное соревнование, из малых ребят готовящее взрослых членов общества, любящих подставлять ногу своим сослуживцам.
Чувство долга глубоко лежало в его душе. Как в собственном образовании на всех его ступенях он был исполнителен, так впоследствии и в своей педагогической практике он относился к своему делу серьезно, не дозволяя себе манкировать принятою на себя обязанностью или относиться к ней кое-как. В этом отношении он был истый «классик», тогда как его сослуживцы отличались «романтизмом», т. е. нередким отлыниваньем от уроков под разными предлогами»
Петр Николаевич принадлежал к натурам сосредоточенным. Он не любил распахиваться не только перед незнакомыми, но даже и перед людьми ему близкими, чем капитально отличался от москвичей, падких на сближение с новыми лицами, легко переходящих от вежливого вы к бесцеремонному ты и лезущих с первого же визита на дружбу или даже в родство. Он знал, чем большею частию оканчивалось такое быстрое, закадышное знакомство. Происходило это у него не от застенчивости или нелюдимства, а от того, что он дорожил своими задушевными связями и сходился лишь с такими личностями, которые были ему по плечу в отношении двоякого ценза – образовательного и нравственного.
Вследствие такой прирожденной замкнутости внутренний мир Петра Николаевича туго поддавался точной характеристике. Один из повествователей среднего разряда вывел его в каком-то рассказе, который и отправил к Белинскому, прося его выразить свое мнение. «Вы напрасно, мой милый, – отвечал ему критик, – воображаете, что личность Кудрявцева может быть легким сюжетом для психического анализа: ее надобно узнать да узнать, а это не скоро дается». Жалко, что такой умный человек, как П. В. Анненков, не познакомившись с Кудрявцевым обстоятельней и увидев его впервые у Белинского, назвал выражение лица его «каменным»[19 - Воспоминания и критические очерки, отдел III, стр. 134.]. Он сильно ошибся: трудно было найдти человека, который бы принимал более живое участие в горе, постигавшем не только его друзей, но и простых знакомых. Все, сходившиеся с Петром Николаевичем, никогда не расходились с ним.
С первых шагов самопознания (а это началось очень рано, чуть ли не в отрочестве) Кудрявцев стал запасаться негодованием на косность ума и нравственного совершенствования, на стеснение разумной воли, стремящейся к лучшему устройству жизни. Иначе и быть не могло, принимая в соображение даровитость субъекта и коренные отличия того сословия, к которому субъект принадлежал по рождению. Сословие это обреталось под строгой дисциплиной высших своих членов. Примеры такой безусловной подчиненности Кудрявцев легко мог видеть на своем отце, переносившем те или другие стеснения, а также и в школе, где первоначально обучался. Вот почему, снисходительный и гуманный, он был неуступчив, когда дело шло о покушениях на образ мыслей, на идеи и принципы. В семействах того сословия, о котором здесь говорится, он встречал также примеры тяжелого ярма. Родные и двоюродные сестры Петра Николаевича горячо любили его, находя в его обхождении с ними прямую противоположность с обхождением других членов семьи: отцев, братьев, мужей. Со стороны его неизменная снисходительность и любовь, со стороны других вкоренившийся обычай брутального отношения силы к слабости. Незавидная участь одной из его родственниц изображена им в повести: «Без рассвета».
Из того же источника, т. е. из сочувствия к притесняемым, происходила в его ученых занятиях особенная наклонность к судьбам национальностей, находившихся под чужеземным гнетом. Такова была судьба тогдашней Италии, истории которой он посвятил первый свой труд[20 - Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановлния её Карлом Великим.]. Так называвшийся тогда «италианский вопрос» стал его любимою темою, а всецелое возрождение Италии твердым убеждением. На это возрождение смотрел он, как на торжество исторической правды. Но, будучи врагом всяких насильственных распоряжений и непрошенного чуждого вмешательства, он хотел бы предоставить самому народу устройство его судьбы. По его мысли, Италия могла быть способною на это при более благоприятных обстоятельствах, и потому он стоял на стороне того мнения, которое выражалось поговоркой: «Италия управится сама собой» (tara da se).
По возвращении его из-за границы (1846 г.), замечали в нем какое-то меланхолическое настроение и объясняли это частию его нездоровьем, частию чувством скрываемой любви. Допуская в известной мере действие этих причин, следовало бы не за~ бывать третьей, более разумной причины: то была благородная туга сердца при сознании разлада между текущею жизнию и разумными началами иной, лучшей жизни. Его тяготили в особенности те из современных событий, которые и у нас, и за границей обращали вспять успехи цивилизации. При таком положении дел не мудрено было терять веру в разумный прогресс. Но в столетний юбилей Московского университета (1855 г.) Петр Николаевич заметно повеселел. Это было не без причины. Почет, оказанный в лице старейшего из наших университетов науке и служителям её, прояснил его душу и лице, ободрил его. Он мирил его с тяжелою памятью прошлого во имя надежды и доверенности к будущему. Вслед за Грановским выдвигался и он на ученое поприще. Оба они привлекали к себе любовь учащейся молодежи и внимание развивавшагося общественного мнения. Имена их становились рядом по благородству направлений. И, когда Грановский преждевременно сошел в могилу, Петр Николаевич, по всем правам, заступил его место в университете и в сердцах слушателей: он достойно держал кафедру на высоте, поставленной покойным профессором, его наставником, товарищем и другом. Учащаяся молодежь никого так не любила, как этих двух преподавателей истории, потому что видела в их обращении благосклонность к себе и искреннее желание пользы. И Кудрявцев и Грановский допускали к себе студентов по воскресеньям, беседовали с ними о новых сочинениях по предмету истории и даже снабжали их книгами из своих библиотек. Другие профессоры, тоже достойные во всех отношениях, осуждали такой обычай, находя, что он отнимает у них время, нужное для их собственных трудов или отдыха, и притом слишком сближает учащих и учащихся, дает последним поблажку в обращении. Может статься, и есть в этих словах известная доля правды, но когда вспомнишь, что вслед за Грановским занимали кафедру истории такие лица, как Кудрявцев, Ешевский, Герье, то отнесешься к принятому обычаю с великим уважением и благодарностью.
Стойкость убеждений соединялась в нем с удивительным благодушием. В нем не было ни малейшего упрямства или грубости, которым часто подвержены личности прямые и честные, но в то же время неприятно отталкивающие от себя манерами своего обхождения, как бы из желания выказать себя Катонами. Петр Николаевич от природы чуждался такого катонства: он был образцом снисходительности в кругу личных отношений, отчего и пользовался не только горячей привязанностью своих единомышленников, но и уважением тех, которые думали иначе. До какой степени доходила его гуманность по отношению к личности, на какой бы ступени общества таковая ни стояла, можно судить по следующему факту. В первый год своего супружества он проводил лето в Останкине, подмосковном имении графа Шереметева. Однажды, после вечернего чая, бывшие у него в гостях короткие знакомые отправились гулять. Отошедши недалеко от дачи, супруга его вспомнила, что она забыла взять с собою ключи от комода, в котором хранились деньги и некоторые ценные вещи. Не надеясь на честность своей прислуги, она просит Петра Николаевича вернуться и принести ключи. «Как же, мой друг, теперь это сделать? – возразил он:– ведь это не ловко, совестно». К этим словам нечего прибавлять. Петр Николаевич скорее согласился бы лишиться денег, чем оскорбить прислугу подозрением, может быть, незаслуженным.
Во взгляде Петра Николаевича на мироустройство проглядывал пессимизм. Он часто видел. в жизни действие слепого случая, бессмысленных сил, губящих человека без надежды на исцеление. Ужасная болезнь жены и неожиданная смерть её во цвете лет поразила его. Он спрашивает себя в недоумении: «что это такое – слепой случай или наказание, имеющее какой либо смысл? Если это неразумная сила, то откуда в ней столько рассчитанной жестокости? а если она разумна, то как может быть столько жестокою?»… И затем прибавляет: «Нам ли хотеть обманывать себя? Дети ли мы, чтоб закрывать себе глаза на наши прирожденные немощи и на законы, над нами господствующие? Испытавши на деле их неумолимость, опять ли тешить себя розовыми теориями и на воздухе построенными мечтами?». Но еще прежде того, до своего несчастья, он думал также, что доказывается следующим местом в письме к одной из бывших его учениц. Выразив желание себе быстрой смерти, не предшествуемой никакой злостной болезнью, он останавливается и говорит: «Куда зашел я! как будто все это в нашей власти? как будто нет над нами судьбы, которая хотя и вовсе не дальновиднее нас, видит вперед менее нашего, однако по самой слепоте своей часто смешивает нас с деревьями и кремнями и вовсе неожиданно дает нам щелчки, от которых не устояло бы и крепкое дерево. Здесь упала она грозою и сожгла целое селение; там, на море, разыгралась она бурею и потопила целый корабль со всем его живым грузом, без разбора праведника от неправедника; там промчалась язвою, там пронеслась голодом, а вот, недавно еще, зашевелившись под землею, почти опрокинула вверх дном целый город – людей наравне с домами. Неужели она пошутила над ним с мыслью? Неужели с мыслью истребила она Лиссабон, сгладила с лица земли Помпею, залила Нидерланды и проч., и проч… Но, право, в такой мысли я ровно ничего не смыслю… и молчу».
VII
Всего персонала московских профессоров и литераторов ни с кем нельзя было так легко познакомиться, как с Михаилом Петровичем Погодиным. Это зависело от его общительности и простоты обращения, чуждого каких либо церемоний. Могло статься, что в этом свойстве отражалась и сущность сословия, к которому он принадлежал по рождению и которому неведомы осторожность и раздумье при завязывании знакомств. Другое похвальное свойство Погодина выказывалось в отношениях к лицам, высшим его по какому либо значению: он обращался с ними без боязни, говорил свободно, не понижая голоса, даже часто разноречиво с ними в обсуждении каких либо вопросов. И. И. Давыдов изумлялся такой отваге, особенно в то время, когда он вместе с другими лицами (в числе которых находился и Михаил Петрович) гостил у графа Уварова в его Тускулуме, тоесть селе Поречье: «Я не позволю себе, – говорил он, – обращаться так развязно с лицем, выше меня стоящим: как я могу забыть, что это лице – министр и мой начальник?» Так рассуждал выдающийся профессор, имевший уже генеральский чин и звезду. У него и на медной доске, прибитой ко входной двери, было вырезано: действительный статский советник Иван Иванович Давыдов.
С таким-то общедоступным человеком, как Погодин, я познакомился в первый год издававшагося им «Московского Вестника» (1827 г.). Я отъявился к нему с небольшой статейкой (под названием «Четыре возроста естественной истории»), чуждой содержания, т. е. научного интереса, но написанной не дурным стилем, под влиянием так называвшейся «павловщины», т. е. лекций М. Г. Павлова, любимого профессора, в физико-математическом факультете. В это же время я увидел и С. П. Шевырева, вместе с Погодиным жившего и работавшего для журнала.
Второй визит Погодину был сделан лет через пять после первого, в 1831 или 1832 году. В это время он жил на Мясницкой улице, в собственном доме, купленном у князя Тюфякина. Дом перестроивался или обновлялся по указанию нового владельца, к которому ввели меня по накладным доскам в верхний этаж: здесь он сидел в небольшой комнате, за маленьким столом, оглушаемый стуком плотничьих топоров и криком рабочих. Разговор наш по поводу издания альманаха «Сиротка» (1831 г.) в пользу малолетних, оставшихся без приюта по смерти их родителей от холеры и помещенных на время в доме Павла Павловича Гагарина, беспрестанно прерывался появлением рыжого мужика, может быть, подрядчика. «Что тебе надобно?» – спрашивал Погодин. – Пожалуйте гвоздей: все вышли. – «Каких тебе нужно: больших или средних?» – И тех и других. – «По скольку?» – По стольку-то. И Михаил Петрович, нисколько не смущаясь, в самом веселом и добром расположении духа, выдвигал ящик своего рабочего стола и отсчитывал требуемое число гвоздей. Тут я заметил, что на его месте я бы не стал доверяться подрядчику, помня пословицу: «красный – человек опасный». – «Нет, не беспокойтесь: я хорошо знаком с простым народом и по физиономия тотчас отличу плута от надежного, совестливого малого. Мой подрядчик в числе второго разряда».
Такою способностью совмещать две совершенно разнородные вещи: выдачу гвоздей плотникам и изложение на бумаге своих мыслей, некоторые, шутки ради, объясняли происхождение излюбленных Погодиным афоризмов. В самом деле, часто отрываемый от письма приходом подрядчика, он был вынужден ставить точки там, где фраза еще не оканчивалась: отсюда крайне несвязная речь, совершенно противоположная периодическому строю. Но это не афоризмы, которые выражают известные мысли, хотя и в немногих словах, но ясно, определенно и связно. У Михаила Петровича не то: y него, сплошь и рядом, предложения обходятся без подлежащих и сказуемых и, однако-ж, каждое замыкаются точкой. Это скорее – лаконизмы, оригинальные по своему строю, выходящие за пределы надлежащей краткости. Вот несколько образчиков: «Известие о болезни батюшки. Туда. Умер» (т. е, получил известие о болезни отца. Надобно ехать к нему, но уже поздно; батюшка уже скончался). «В университет. С Кубаревым мимо Снегирева. Все гусем к Уварову». «Скучная лекция. Хандра. Для рассеяния к Аксаковым. Анекдоты Пущина о Павле и Суворове. В бостон»[21 - Жизнь и труды М. П. Погодина.]. Читателей поражала такая форма и давала повод к пародиям. Наиболее удачная вышла под псевдонимом Ведрина (Герцена). Граф Строгонов, прочитав ее, заметил: «Будьте уверены, господа, что Михаил Петрович сочтет ее своим собственным произведением». В похвалу Погодину необходимо прибавить, что он не сердился на подобные выходки и даже смеялся, если пародия выходила забавною. Но отзывы о книге: «Год в чужих краях» (1844), огорчили его. Один из них, написанный Н. А. Полевым, помещен в петербургском журнале, в каком именно не припомню; другой, явившийся в «Отечественных Записках»[22 - 1844 года, № 9.], принадлежит мне. Каюсь искренно и сильно в этом проступке. Что делать? Тогда он считался делом похвальным, обязательным, услугой известному направлению. Всему виною литературнал партия. Погодин, видите ли, принадлежал к славянофилам, a сотрудники «Отечественных Записок», где я постоянно участвовал, к западникам: отсюда гнев и немилость. Погодин принес на лекцию обе статьи. Он начал ее изложением своих трудов по истории, литературе, изданию журналов, и затем прочел наиболее выдающиеся места рецензий, где он подвергался глумлению. Чтение закончилось таким выводом: «Вот, милостивые государи, что я выслужил за мои многолетние труды! Вот как y нас награждается честная, добросовестная деятельность!»
Приведу остроумную заметку Хомякова об одном рассказе Погодина из его заграничной поездки. Приехав на какую-то станцию с своей супругой, путешественник заказал выпускную яичницу и жареную курицу. Он думал, что остановка будет такая же продолжительная, как на наших железных дорогах. Вдруг раздается звонок. Яичница была уже скушана, a курица осталась до следующей остановки. Обо всем этом Михаил Пе-трович счел нужным довести до сведения читателей. При свидании с ним Хомяков начал пенять ему: «Как тебе не совестно, любезный друг, потчивать публику такими пустяками! Какой интерес в том, что вы скушали выпускную яичницу, а жареную курицу взяли с собой? Вот если бы вы курицу скушали, а выпускную яичницу взяли с собой, это другое дело, этим следовало бы поделиться с публикой».
Погодин принадлежал к разряду людей неробких. Отважность свою он, между прочим, доказал вызовом Костомарова на ратоборство по вопросу о происхождении Руси, для чего и приехал в Петербург. Известно, что в своей магистерской диссертации (1825) Погодин ведет Русь от племени норманского, обитавшего в нынешней Швеции. Костомаров, через 35 лет, именно 1860 года, в брошюре «Начало Руси», доказывает, напротив, что славяне призвали князей из Руси литовской (иначе Жмуди, жившей на берегу реки Руси). Решаясь на состязание, Погодин, разумеется, не мог льстить себя надеждой на успех: он знал, что Костомаров пользуется особенною любовью своих слушателей, которые не дадут его в обиду, а поддержат его своим сочувствием и аплодисментами. Зрелище вышло интересное и знаменательное, усложненное особыми обстоятельствами того времени (т. е. польскими волнениями).
Ареною для состязания отведена была огромная зала в университете. Поставили в ней две кафедры, одну против другой, чтобы ратоборцы могли ясно слышать обоюдные возражения и опровержения. Зрителей ожидалось не мало, почему П. В. Анненков и я поторопились приходом и заняли очень удобные места на первой скамье, у самой кафедры, назначенной для Погодина. Третьим присоединился к нам И. И. Срезневский. Вот как отлично устроились! – подумали мы:– будем лицезреть Погодина, хотя не en face, а в профиль, ни одного словечка его не пророним и, кроме того, в случае какого либо казуса, найдем покровительство в нашем соседе, профессоре. Но надежда наша оказалась преждевременной. Едва мы уселись, как человек двенадцать студентов, рослых и бравых юношей, по два в ряд промаршировали к кафедре и расположились у ней с трех сторон, так что мы могли только слышать Погодина, но не видеть его. Другая дюжина студентов точно также расположилась у кафедры Костомарова.
Во время диспута обнаружилось, что обе дюжины имели своим назначением подавать сигналы товарищам, поместившимся на хорах, когда и кому именно надлежало рукоплескать или шикать. Случалось, что вестовые, не расслышав или не поняв, о чем идет дело, давали сигналы не впопад, и затем били отбой. Это смешило зрителей, невольно вспоминавших поговорку: ordre, contre-ordre, dеsordre.
В числе лиц, пришедших на диспут, было немало поляков, которым, конечно, было лестно удостовериться, что наши первые правители были литовцы.
На третьей или четвертой скамье сидели два офицера генерального штаба, польского происхождения. Один из них (С…….) с бумагой в руке тщательно записывал ход диспута, чтобы потом, в газетном фельетоне, пробить в набат победу, одержанную Костомаровым. Впрочем, последнему доброжелательствовали не одни поляки и малороссы, но и великороссы. Профессору Казанского университета г. Буличу, находившемуся в это время в Петербурге, пришлось сидеть рядом с одним почтенных лет помещиком, который до того увлекся симпатией к Костомарову, что, не стесняясь, в слух выражал ему одобрение, а противнику его порицание. Когда Погодин прервал объяснения Костомарова каким-то замечанием, помещик не вытерпел и, обращаясь к кафедре Погодина, заговорил: «ты погоди отвечать; ты прежде выслушай возражения».
Чем же кончился диспут?… К нам подошел князь П. А. Вяземский с следующим остроумным замечанием: «говорят, что мы прогрессируем в науке, но едва ли это справедливо; сегодняшний диспут доказывает противное: прежде мы хоть не знали, куда идем, но за то знали, откуда идем; а теперь не знаем ни того, ни другаго».
Кроме того, в одном из сатирических изданий явилась забавная каррикатура, как бы выражающая результат прения: под портретами трех князей: Рюрика, Синеуса и Трувора, красуется подпись: «не помнящие родства». Наконец, в, газете «Голос», помнится, г. Бергольц доказал всю несостоятельность лингвистических доводов Костомарова в пользу мнения о призвании славянами князей из Руси литовской.
VIII
Несколько лет сряду вакационное время (три месяца) проводил я в одной из прекрасных окрестностей Москвы – в селе Покровском, принадлежавшем Глебову-Стрешневу, который и сам переезжал сюда из города на четыре-пять месяцев. Рядом с нашей дачей помещалось почтенное, всеми уважаемое семейство Сергея Михайловича Соловьева, профессора русской истории в Московском университете. Воспоминание о знакомстве и беседах с ним доставляет мне и теперь душевную радость, омрачаемую печальною мыслью о том, что это было, а теперь этого нет.
Я был знаком с отцем Сергея Михайловича, священником в московском коммерческом училище, где он преподавал Закон Божий. Из разговоров с этим образованным и добрейшим служителем церкви я узнал много интересных фактов об отношениях белого духовенства к своему начальству, трудно совместимых с истинным гуманизмом и естественно возбуждавших неудовольствие и тайный ропот. Впоследствии сын его подтвердил справедливость рассказов и сетований своего отца.