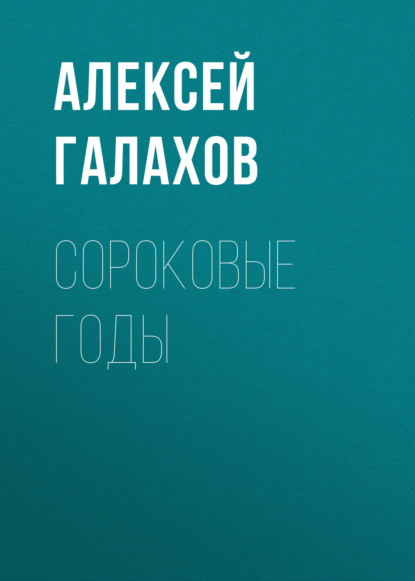По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сороковые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения, Сергей Михайлович мог служить образцом. Все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Отсутствие аккуратности, постоянства в делах, было в большинстве случаев Ахиллесовой пяткой москвича; у него же, сказать без преувеличения, ни минуты не пропадало напрасно. Вот как он проводил шесть рабочих дней в неделю. В восемь часов утра, еще до чаю, он отправлялся иногда один, но большею частию с супругой, через помещичий сад в рощу, по так называемой Елизаветинской дорожке, в конце которой стояла скамейка. Он садился на эту скамейку, вынимал из кармана нумер «Московских Ведомостей», доставленный ему накануне, но не прочитанный тотчас по доставке, так как это чтение оторвало бы его от более серьезного занятия: чтение газеты, как легкое дело, соединял он с прогулкой, делом приятным. Обратный путь совершался по той же дорожке. Ровно в 9 часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался в своем кабинете: именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака до обеда. Никто в эти часы не беспокоил его. Вход воспрещался всем без исключения. Близкие его знакомые нередко удивлялись такому ригоризму, даже подсмеивались над ним. Иногда они спрашивали дочку его (в то время шестилетнюю): «Верочка, сколько раз ты была у папаши в кабинете?» – Ни рану, – отвечала она. – Конечно, очень не много таких отцов, которые запретили бы детям входить в свою рабочую комнату, но, с другой стороны, еще меньше таких, которые оставили бы после себя двадцать девять томов отечественной истории и томов десять, если не более, других ученых трудов.
Воскресный день был для нашего историка истинной субботой, то-есть «покоем». Утром он ходил к обедне с своим семейством, а затем освобождал себя от всяких занятий и проводил время в кругу близких людей, преимущественно товарищей по университету, приезжавших к нему на обед и остававшихся до позднего вечера. Почти каждое воскресенье бывали у него Ешевский (живший тоже некоторое время в Покровском), Попов (Н. А.), Кетчер, Корш (В. Ф.), Дмитриев, Забелин, Афанасьев и многие другие. Иногда навещали его приезжие из Петербурга, например, К. Д. Кавелин. Все и всегда находились в самом приятном, веселом расположении духа. Говор и хохот почти не умолкали. Сам хозяин подавал пример своим искренним, задушевным, почти-что детским смехом, который был свойствен москвичам того времени, но которого теперь – увы! – не услышишь не только среди людей пожилых и степенных, но даже в кругу безбородых юношей. А если завязывался спор, то уж это был спор на славу – громкий, жаркий и продолжительный.
Кроме занятий по капитальной своей работе (истории), Соловьев сотрудничал в двух петербургских журналах: «Отечественных Записках» и «Современнике». Гонорар за статьи служил ему добавочным, или, как он говорил, прибавкой на кашу. Писал он эти статьи по вторникам (для «Отечественных Записок») и пятницам (для «Современника»), от такого-то часа до такого-то. Но, как только наступит положенный предел работе, он, не смотря ни на что, бросал ее, хотя бы не дописал начатой фразы, не перенес половины слова из одной строки в другую. Может быть, это и выдумано, или преувеличено шутки ради; но ведь только такою точностью и доводят дело до желаемого, благополучного конца.
В университете Соловьев держал себя самостоятельно и неизменно, основываясь в своих действиях на известном принципе. Он, конечно, принадлежал к партии Грановского, но вполне сохранил свою независимость, и в некоторых пунктах расходился с ним, например, в понятии об отношениях профессора к его слушателям: он не допускал сближения с студентами, а держал их в известном от себя расстоянии. Профессор, говаривал он, обязан приносить пользу единственно своими лекциями в аудитории, а не беседами на дому – последние отнимают только время, нужное ему для лучшего приготовления первых и для необходимого отдыха в семействе. Замечено при том, что этот обычай посещения влечет за собою нежелаемые последствия с обеих сторон: многие студенты являются не с целью приобрести какие либо новые сведения, а ради приятного провождения времени – поболтать о чем нибудь, покурить, посмотреть на житье-бытье своего наставника; а со стороны наставника возникает покушение привлечь к себе молодежь, быть её любимцем, сделаться популярным. Если студенту нужно спросить у меня что нибудь, и к его услугам в университете по окончании лекции. Поэтому Соловьев осуждал Грановского и еще больше Кавелина, не державшихся такого мнения, хотя был с обоими[23 - С последним до студенческих историй в начале 60-х годов.] в очень хороших отношениях. На Кавелина смотрел он, как на «предвечного младенца» (прозвище, данное ему Грановским), признавал в нем большие таланты, но в то же время осуждал неустойчивость его мнений и поступков, объясняя ее врожденным легкомыслием, а внешним знаком этого легкомыслия считал вьющиеся волосы: «курчавые», – говорил он смеясь, – «все без исключения легкомысленны».
IX
Припомню несколько моих свиданий с Гоголем. Первое относится к тому времени, когда вслед за «Вечерами на хуторе близь Диканьки» явились «Арабески» и «Миргород». Автор их приехал в Москву, где у него уже было немало почитателей. В числе их, кроме Погодина и семейства Аксаковых, состоял и короткий их знакомый, А. О. Армфельд, профессор судебной медицины и в то же время инспектор классов в Николаевском сиротском институте, где я преподавал историю русской словесности. Он пригласил на обед близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших лицезреть новое светило нашей литературы. Обедом не торопились, зная обычай Гоголя запаздывать, но потом, потеряв надежду на его прибытие, сели за стол. При втором блюде явился Гоголь, видимо смущенный, что заставил себя долго ждать. Он сидел серьезный и сдержанный, как будто дичился, встретив две-три незнакомые личности. Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квитки) «Пан Халявский», напечатанной в «Отечественных Записках», тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь с замечанием, что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, доходящие до каррикатуры, он старался, однако-ж, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант. Вообще он говорил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям.
Вторая встреча устроилась в том же доме. Хозяин (Армфельд) играл в карты с С. Т. Аксаковым, а Гоголь, обедавший с ними, спал на кровати. Проснувшись, он вышел из-под полога, и я был представлен ему, как искренний поклонник его таланта, знакомивший институток с его сочинениями, которые читались мною по вечерам в квартире начальницы, разумеется, с исключением некоторых мест, не подлежащих ведению девиц. Гоголь, бывший в хорошем расположении духа, протянул мне руку и сказал, смеясь: «Не слушайтесь вашего инспектора, читайте все сплошь и рядом, не пропускайте ничего», – «Как это можно»? – возразил Армфельд:– «всему есть вес и мера». – «Да не все ли равно? Ведь дивчата прочтут же тайком, втихомолку».
Третий раз сошелся я с ним в Москве же, в книжной лавке Базунова, бывшей Ширяева. Он просил показать ему вышедшие в его отсутствие[24 - Где он был перед этим временем, не припомню.] литературные новинки. Базунов выложил на прилавок несколько книг, в том числе и новое издание моей «Русской Христоматии», в трех книгах, из которых последняя, под названием «примечаний», заключала в себе биографические сведения о важнейших писателях и оценку их деятельности. Гоголь, разумеется, был превознесен выше облака ходячего, но и он польстил мне, когда в число отобранных им книг включил и мой учебник.
Четвертое и последнее свидание было во время летней вакации, не помню какого года. Краевский приехал на побывку в Москву и остановился у В. П. Боткина. Каждое утро я отправлялся к ним на чаепитие и веселую беседу. В один из таких визитов неожиданно является Гоголь, по возврате из чужих краев – каких именно, тоже не помню. Я несколько сконфузился, вспомнив мое письмо к нему, написанное по поводу предисловия его ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» и напечатанное в «Отечественных Записках» 1847 года[25 - Февраль, отдел критики, т. 50.]. Гоголь на мой взгляд изменился: похудел, стал серьезнее, сдержанней, не выказывая никаких причуд или капризов, как это им делалось нередко в других более знакомых домах. Боткин предложил мне бы нибудь сообща пообедать. Гоголь охотно согласился: чего же лучше, – прибавил он, – как не в гостинице Яра, близь Петровского парка? Таким образом мы провели время вчетвером очень приятно, благодаря прекрасной погоде и повеселевшему дорогому гостю. За обедом он разговорился и даже шутил. Когда на закуску была подана вместо редиски старая редька, он позвал слугу и спросил его: что это такое? – Редиска, – отвечал слуга. – Нет, мой друг, это не редиска, а редище, точно так же, как ты не осленок, а ослище.
С этих пор и до самой его кончины мне не удалось с ним встречаться. В последний приезд его в Москву он жил в доме графа Толстого, его приятеля и одномысленника, где и заболел. Волезнь сначала казалась неважною; по крайней мере, никто не ожидал, что она окончится смертью. Многие навещались о его положении и узнавали, что он держит строгий пост, кушает только просфоры с красным вином, не принимает никаких лекарств. К этим причинам телесного расстройства присоединились внутренния, моральные влияния: отречение от прежней своей деятельности, дошедшее до намерения сжечь рукопись второго тома «Мертвых душ», пренебрежение жизнию, ничем необъяснимое самоистязание… короче, мрак и тайна облекали его судьбу. Неожиданная скоротечность гибели поразила его почитателей. На панихидах по нем возбуждались не одни горестные, но и мрачные чувства. Ходил слух, что незадолго до смерти Гоголя Шевырев на коленях умолял его принять лекарство. Гоголь, не отвечая, повернулся к нему спиной, а к стенке лицем. Тогда Шевырев не выдержал и громко сказал ему: «упрямым хохлом ты жил, упрямым хохлом и умрешь».
Заключу двумя анекдотическими рассказами, слышанными от достоверных личностей.
Самые образованные семейства, жившие в Москве, интересовались нашим великим юмористом, ценили его талант и входили с ним в близкия отношения. Таковы были семейства С. Т. Аксакова и А. П. Елагиной, матери Киреевских, великой поклонницы немецкой поэзии. В один из своих визитов Гоголь застал ее за книгой. – «Что вы читаете?» – спросил он. – «Балладу Шиллера «Кассандра». – «Ах, прочтме мне что нибудь, я так люблю этого автора». – «С удовольствием» – и Гоголь внимательно выслушал «Жалобу Цереры» и «Торжество победителей». Вскоре после того он уехал заграницу, где и пробыл не малое время. Возвратясь, он явился к Елагиной и застал ее опять за Шиллером. Выслушав рассказ о его путешествии и заграничной жизни, она обращается к нему с предложением прочесть что нибудь из Шиллера: «Ведь вы так любите его». – «Кто? я? Господь с вами, Авдотья Петровна: да я ни бельмеса не знаю по-немецки; ваше чтение будет не в коня корм». Любопытно бы знать, для чего притворялся или просто лгал человек.
А вот второй пассаж, рассказанный мне Щепкиным, нашим гениальным комиком, боготворившим автора «Ревизора». Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним (ведь они оба были хохлы). Раз, – говорит он, – прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый. – «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». – «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» – «У Аксаковых».~-«Прекрасно: и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова, Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича».~«С чем?» – «Он кончил вторую часть «Мертвых душь». Гоголь вдруг вскакивает: «Что за вздор! от кого ты это слышал?» – Щепкин пришел в изумление: «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». – «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне».
Снова спрашивается: чего ради солгал человек? зачем отперся от своих собственных слов?
X
Если справедливы слова Фамусова, что «на всех московских есть особый отпечаток», то об Кетчере (Николае Христофоровиче) следует сказать, что из всех жителей древней столицы он выдавался по-преимуществу, был архимосквичем, разумеется, не в том смысле, какой придавал этому слову Фамусов. Только в Москве жилось Кетчеру привольно, только здесь он чувствовал себя как дома. К Петербургу не лежало у него сердце, да и не могло лежать по его темпераменту и душевному складу, капитальная особенность которого состояла в пренебрежении внешнего, формального, и в уважении внутреннего, существенного. Этикет, условные приличия, благовидные предлоги (то-есть благие только по виду, а не по существу) возмущали Кетчера, потому что напрасно стесняли естественное, свободное проявление жизни в действиях, чувствах и образе мыслей. Чему не учит нас природа, – говаривал он, – тому и не следует приносить ее в жертву. Кетчеру и на мысль не приходило покушение «казаться» не тем, чем он «был» на самом деле. Он всегда и неизменно являлся самим собою, и в этом смысле был вполне наивным субъектом. Притворство, скрытность, желание маскироваться, виляние хвостом и нашим и вашим, находили в нем непримиримого обличителя и преследователя. Правдолюбие, откровенность, доброта – вот те капитальные особенности, которыми он привлекал к себе честных и благомыслящих людей. Ими объясняется его оригинальность, иногда пугавшая тех, кто его не знал, или знал мало.
И по внешности Николай Христофорович отличался от других. Он плохо заботился о своем туалете и костюме, как бы желая, чтобы его встречали и провожали не по платью.
Я познакомился с ним вскоре по окончании им курса в медико-хирургической академии. Его плащ, или по-тогдашнему альмавива, не походил на плащ Гарольда (упоминаемый в первой книге Евгения Онегина): верх его был зеленый, а подкладка алая, подобно тому, в каком являлся горный дух волшебному стрелку (в опере Вебера), почему мы и прозвали его асмодеем. Смех его походил на грохот, изумлявший присутствующих, хотя и напрасно: смеяться не грешно над тем, что есть смешно; во всяком случае он искреннее, следовательно лучше, сдержанного хихиканья или кислой, вялой улыбки. Он говорил своим близким знакомым ты, а не вы, потому что первое слово естественней и сердечней: в спорах часто останавливал противника восклицаниями вздор, врешь, минуя околичности и смягчения, в роде: извините, это, кажется, неправда. К чему оговорка кажется, когда дело ясно, как день, и для чего извиняться в том, в чем нет ни малейшей вины? Мнения свои Кетчер выражал без утайки, громко и точно, не прибегая к ограничениям и уклончивости. Он мог ошибаться, но умышленно искажать то, что ему думалось и что он признавал истиной, он считал великою подлостью, тяжким грехом.
В числе посетителей так называвшейся Литературной кофейной, Бажанова[26 - В Москве, позади Охотного ряда, рядом с бывшим трактиром Печкина.], нередко встречался молодой преподаватель истории, сын цырюльника Жданова. Из ложного стыда, возбуждаемого в нем профессией отца, он прибавил к прозвищу частицу не, то-есть отрекся от своего родителя и стал Нежданов. Такой пассаж глубоко возмутил Кетчера, и он не давал прохода отщепенцу; при каждой с ним встрече, в доме или на улице, он во всеуслышание говорил ему: «Здравствуй, Жданов! здоров ли твой отец?» С другой стороны он не давал в обиду никого – будь то знакомый или не знакомый, если находил, что противник его неправ. В той же кофейной он спас театрального музыканта Щепина от неприятного столкновения с офицером, вызвавшим его на дуэль: Кетчер вытолкал вон назойливого бретера, не думая о том, что сам мог попасть в неприятность. Много ли найдется ему подражателей?
Круг друзей и близко знакомых Кетчера состоял из личностей, выдающихся благородною самостоятельностью и доброкачественным образом мыслей. Это были западники, сторонники прогресса, либералы в тогдашнем смысле слова. Чего они желали? Уничтожения крепостного права, распространения образования, судебной реформы, облегчения цензуры, а не того, к чему потом стремились нигилисты. Крайности были им не по сердцу. Грановский и Кетчер, бывшие друзьями Герцена, повернулись к нему спиной, когда он стал издавать «Колокол». На обеде в Благородном Собрании (1858 г.) Кетчер после спича о реформах, с бокалом в руке, на коленях перед портретом Царя-Освободителя, пил за его здоровье и благоденствие[27 - Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. стр. 142.]. Центром дружеского круга, в котором вращался Кетчер, был Т. Н. Грановский. На нем и на артисте М. С. Щепкине преимущественно высказывалась его сердечность: он радовался их успехам и печалился их невзгодами. В его беззаветной привязанности к ним было истинно трогательное. Пережив их, он завещал похоронить его между их могилами, как бы надеясь не разлучаться с ними и по смерти. Впрочем, не они одни, но и другие той же категории пользовались его неизменною привязанностью: он радел о них искренно, был постоянным их защитником. Горе тому, кто покушался на их честь какими либо действиями или словами.
К молодому поколению (особенно учащимся) Кетчер относился с сочувствием, но с неизменным условием, чтобы оно было исполнено чувствами, свойственными неиспорченному возросту: правдивостью, честностью, стремлением к добру, любознанием. Напротив, юноша с наклонностью к фальши, учащийся не из любви к образованию, а ради внешней цели, например, из желания быстрой карьеры, признавался им погибшим и отвращал его сильнее, чем вполне испорченный взрослый субъект.
Как собеседник на дружеских обедах и других приятельских сборищах, Кетчер был незаменим. Он не принадлежал к числу гастрономов, напротив, был умерен в пище, но когда дело доходило до угощения шампанским, его единственным любимым напитком, тогда он становился героем пира, единственным распорядителем и исполнял свою роль неизменно и неумолимо. Он сам откупоривал бутылки, сам наливал бокалы, не дозволяя им оставаться пустыми. Никто не имел права уклоняться от нектара: волей-неволей каждый должен был пить. Напрасны были отнекивания, извинения, просьбы, всевозможные резоны: пей – и только. Враг всяких стеснений и запретов, Кетчер в это время – только в это – становился деспотом, подчас докучливым. И сколько бы ни было бутылок, все они долженствовали быть опорожненными; до того же времени никому не дозволялось выходить из-за стола[28 - Роль Кетчера в подобных случаях верно передана в рассказе об обеде на подмосковной даче, где летом жил Грановский, к которому наезжали из Москвы знакомые: «Один из приятелей, доктор, ходит и подливает всем, хохочет раскатистым смехом, страшным для непривычного слуха, на всех кричит, всеми командует, и все его слушаются, и всем весело от выходок чудака» (Сборник Общ. люб. российской словесности на 1891 г. Рассказ: Последняя депеша, стр. 286).]. Подивитесь при этом одному обстоятельству: все более или менее испытывали действие вина; на одного Николая Христофоровича оно нисколько не действовало: он оставался трезвым. А вот другое еще более удивительное обстоятельство: этот любитель шампанского, по случаю каких либо празднеств, у себя дома не знал, что такое вино и водка; конечно, и то и другое у него имелось, но только для гостей.
Хотя и доктор, Кетчер больше интересовался литературой, чем медициной, да и знакомился он преимущественно с учеными, литераторами, артистами, а не с медиками. Он известен переводом (в прозе) драматических произведений Шекспира с подлинника. Кроме того, переведены им некоторые сочинения романтика Гофмана (с немецкого), например, «Кот Мур», и письмо Чадаева (с французского), помещенное в «Телескопе», где он участвовал, по знакомству с издателем Надеждиным. Помогал он также Белинскому, когда последний нуждался для своих критических статей в каких нибудь материалах немецкой литературы. Достоинство переводов Кетчера – верность, недостаток – отсутствие легкости. «Злобно-печальная» муза Некрасова игнорировала первое (хотя оно главное) и зацепила второй (хотя он дело второстепенное):
Вот и он, любитель пира
И знаток шампанских вин:
Перепёр он нам Шекспира
На язык родных осин.
XI
В одной из своих эпиграмм Щербина назвал Григорьева (Аполлона Александровича) «безталанным горемыкой». Это справедливо только наполовину. Григорьев был очень талантлив, что доказывается его трудами по литературной критике и книжкой стихотворений[29 - Например, стихотворение «Город» (то-есть Петербург), стр. 51-53.]. Он не даром носил имя Аполлона, знал несколько иностранных языков, искусно владел игрою на фортепьяно и очень походил лицем на Шиллера, если только верен портрет, приложенный Гербелем к собранию сочинений немецкого трагика, переведенных на русский язык. Что же касается до второго эпитета (горемыка), то действительно Григорьеву как бы не сиделось на одном и том же месте. Родился и обучался он в Москве. По окончании университетского курса переселился в Петербург, где вел рассеянную жизнь, сильно огорчавшую его добрейших родителей. Через четыре года он, словно блудный сын, воротился на родину. В это-то время П. Н. Кудрявцев и я познакомились с ним и предложили ему сотрудничество в журнале Краевского «Отечественные Записки». Невозможно выразить радость и благодарность нам его отца и матери за наше содействие к остепенению их единственного сына. Другим содействием служила женитьба его на образованной и добрейшей девице Лидии Федоровне Корш, принадлежавшей ко всем известному благороднейшему семейству. Кроме журнальной работы, Григорьев занимался преподаванием законоведения в Александринском сиротском институте (что теперь Московское военное училище) и в первой Московской гимназии. Свободное от педагогических занятий время он прилежно посвящал журнальной работе в «Москвитянине», под редакцией Погодина. Казалось, что нельзя было желать лучшего. Но Григорьеву почему-то не взлюбилась Москва: он вышел в отставку и уехал за границу с одним княжеским семейством в качестве учителя. Черер два года вернулся в Петербург, где ретиво предался журналистике, выработывая особый взгляд на сущность и требования литературной критики. В 1861 году поступил на службу в Оренбургский кадетский корпус учителем словесности, но через год воротился в Петербург, посвятив последнее время своей жизни (ум. в 1864 г.) на излюбленную им деятельность в журналах («Время», «Якорь», «Эпоха»)[30 - Сочинения А. Григорьева, т. I (предисловие).].
Выдающимся пунктом этой деятельности следует считать пятилетнее сотрудничество его в «Москвитявине» (1851-1855 гг.) вместе с Эдельсоном, Алмазовым и другими даровитыми лицами, во главе которых стоял А. H. Островский, автор знаменитой комедии «Свои люди – сочтемся». Они получили название молодой редакции «Москвитянина» по своей молодости, а, может быть, и в отличие от редакции прежних лет этого журнала. Новая критика выработывалась преимущественно на разборе произведений Островского. В одной из статей Алмазова он не только приравнивается к Шекспиру, но даже ставится выше его, Григорьев, с своей точки зрения, назвал сочинения нашего драматурга «новым словом» в нашей литературе. Какое именно это слово? что оно означает? в чем его сущность? – читатели долго не могли от него добиться, а журнальная критика беспощадно глумилась над ним. Наконец-то, в статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», заявил он неожиданно, что «новое слово Островского есть самое старое слово – народность; что новое отношение его к русской жизни есть прямое, чистое, непосредственное[31 - Соч. Григорьева, т. И, стр. 19.]. Так как критические взгляды молодой редакции излагались широковещательно и не совсем определительно, то они давали повод к смеху и осуждению. Западники относились к ним неодобрительно. На одном из вечеров у В. П. Боткина, Грановский занялся чтением только что вышедшей книжки «Москвитянина». – «Полно вам наслаждаться болтовней молодой редакции, – заметил ему кто-то:– присядьте-ка лучше к нам для беседы». – «Нет, господа, – отвечал он, – дайте дочитать: это до того глупо, что даже становится интересным». Другого мнения о той же критике был Тургенев. На вопрос, как он думает о такой-то статье Григорьева, он отвечал: «мне она нравится». Все собеседники захохотали, и знаменитый беллетрист волей-неволей смутился. Такое несогласие равномерно образованных передовых личностей на один и тот же предмет объясняется господствовавшим тогда направлением критики среди западников. Эта критика была по преимуществу тенденциозная, направленная на раскрытие ненормальных явлений в современном обществе и на разъяснение разумных начал жизни. Художественное значение поэтических созданий при этом удалялось на задний план, или и совсем убегало из виду. Дело доходило до смешного, до nec plus ultra. Один из ценителей поэзии, и сам поэт (кажется, Огарев), разделил эту тенденциозную критику на виды, приняв в основание сословия или звания: обличение дворян, обличение купцов, обличение чиновников и т. д. Комедии и драмы Островского дали повод молодой редакции «Москвитянина», в особенности Григорьеву и ближайшему к нему сотруднику Эрасту Благонравову (псевдоним Алмазова), положить новую основу критике изящных произведений литературы. Раскрыв миросозерцание, или, как он выразился, «новое слово» Островского, Григорьев ретиво принялся за дело. Так как это «слово» состояло «в непосредственном отношении к действительности» (а не в предвзятом взгляде на нее, что, как известно, затмевает истину), то, разумеется, прямая обязанность критики состоит в том, чтобы указать правильность или неправильность отношений автора к русской народности. Взгляд Григорьева, долго не признаваемый литераторами, с течением времени, мало по малу усвоивался ценителями поэзии, так что в настоящее время Тургенев мог бы сказать: «rira bien qui rira le dernier».
Григорьев принадлежал к натурам впечатлительным и легко увлекался веяниями, иногда прямо противоположными. При первом знакомстве со мною, посылая свои статьи в «Отечественные Записки», он стоял за европеизм, но потом круто повернул в другую сторону, т. е. усвоил славянофильство и начал подражать Хомякову в соблюдении постов. Как-то раз в одно из воскресений великого поста столкнулся я с ним в трактире Печкина. Мы оба спросили по чашке кофе. Я, грешный, начал пить его со сливками, а он отказался от них и потребовал себе чего-то другого. Гляжу, несут ему графинчик коньяку, значительного размера. Он прав, – подумал я:– молочное грешно вкушать, а коньяк – не грешно, зане[32 - Любимое словцо Григорьева.] в святцах на этот день значилось «разрешение вина» и елея.
XII
С конца сороковых годов наступило в Москве пасмурное, тяжелое время для тех, которые почему либо состояли на дурном счету y градоначальника. Градоначальником же был граф Закревский, не благоволивший преимущественно к профессорам и вообще к служителям науки, так что он с равным подозрением относился к Хомякову и К. Аксакову с одной стороны и к Грановскому с Кудрявцевым с другой. Петрашевская история и волнения с Западной Европе усилили бдительность полицейского надзора, так что малейшая неосторожность в словах грозила большою бедою. Ходили слухи, – верные или неверные, не знаю, – что подкупленная прислуга доносила кому следует о разговорах и суждениях своих господ. Что делать? – необходимо было сдерживать язык или прибегать к иностранному языку при выражении мнений. Собираясь в назначенные дни преимущественно y графини Салиас (Евгении Тур), вместо разговора «о важных материях» стали предаваться картежной игре. Но это было сносно умевшим играть (самой графине, Грановскому, Тургеневу, Кетчеру, Е. М. Феоктистову); другие же, не любившие карточной игры или вовсе не знавшие её, как, например, Соловьев, Кудрявцев, Ешевский, Бестужев-Рюмин, должны были пробавляться рассказами каких нибудь анекдотов, возбуждавших общий смех.
В числе постоянных посетителей графини были Катков и Леонтьев. Первый воротился из-за границы с расстроенным здоровьем, сумрачный и молчаливый, как бы чем-то недовольный. В первое свидание с ним я напомнил ему о нашем общем сотрудничестве в «Отечественных Записках, но тотчас же заметил, что ему неприятен такой возврат к прошлому: он смотрел на него, как на что-то ребяческое, недостойное совершеннолетнего человека. Университетские лекции его по философии были очень интересны. Студенты слушали их с великим удовольствием втечение четырех или пяти лет, когда кафедра философии была упразднена, a место её заступило преподавание логики. Преподаватель Терновский-Платонов, вероятно, для оживления такого сухого научного предмета прибегал нередко к метафорической речи. Вот как однажды начал он свое чтение: «Милостивые государи, прошлую лекцию мы, сев в лодку любознания, проплыли море исследования и достигли брега истины. Пойдем теперь дальше». Товарищ и друг Каткова, Павел Михайлович Леонтьев, всегда веселый и бодрый, интересовал нас разъяснением положительной философии Шеллинга и ознакомлением с своей докторской диссертацией «О поклонении Зевсу». Он тоже любил играть в карты, но играл из-рук вон плохо.
Наступила Крымская война. Повсюду и глубоко возбудила она национальное чувство; все, конечно, желали блага отечеству, но взгляды на средства к достижению этого блага были различны, иногда прямо противоположны. Одни молились об успехе наших войск, не допуская ни малейшего изъяна нашим владениям; другие находили полезным временный гнев Божий, то-есть политическое принижение, которое раскрыло бы глаза на недостатки правительственной системы. Рано утром являлись любопытные в книжную лавку Базунова (в Москве) читать газеты и узнавать севастопольские новости. По физиогномии читавших легко было угадать, к какой категории патриотов принадлежат они – к первой или второй. Некоторые из последней доходили в своих мнениях и чувствах до абсурда. Один (С – в) почему-то восхищался зуавами, когда наши войска постоянно выказывали образцовый героизм; другой (Н. Ф. П-в) на выраженное кем-то сожаление о том, что враги наши, пожалуй, завладеют Крымом (русской Италией), начал утешать его такими словами: «Поверьте, мы останемся не в накладе, а в выигрыше: мы будем есть еще лучшие яблоки и по более дешевой цене». Вспоминая теперь подобные речи, изумляешься и невольно краснеешь, не смотря на свои преклонные годы.
Светлым событием, порадовавшим наши сердца в эту тяжкую годину, был столетний юбилей Московского университета. Рескрипт императора, превосходно прочтенный министром народного просвещения Норовым, возбудил громкие, долгие, радостные до слез рукоплескания. Все веселились, как бы рассвету после долгих сумерек. Пошли праздничные обеды для профессоров и студентов, вместе со многими другими лицами, сочувствовавшими делу высшего образования. К императору была отправлена депутация из трех лиц: ректора Альфонского и двух профессоров, принести ему глубокую благодарность за благоволение к старейшему из наших университетов. Государь принял депутатов милостиво, удостоил ректора своей руки, причем сказал следующее: «Я никогда не был врагом просвещения; я враг просвещения западного, потому что на Западе сами не знают, чего хотят».
Восшествие на престол Александра II рассеяло тягостное настроение духа и оживило все сердца радостной, успокоительной надеждой. – Надобно было присутствовать при его въезде в Москву и короновании, чтобы почувствовать сладость успокоения после разных опасений и непредвиденных бед. На вечеряем катанье по московским улицам вполне выразилось чувство благоговения и любви к государю и государыне, проезжавшим среди двух рядов экипажей по московским улицам: не только толпа народа, стоявшая на тротуарах, но и сидевшие в каретах и колясках, приветствовали восторженными, неумолкаемыми восклицаниями царя-освободителя и его супругу, доброта которых не имела границ.
Вместе с государем прибыл в Москву и Ростовцев, начальник штаба военно-учебных заведений. Он остановился в Кремле, в Николаевском дворце. Я и Федор Иванович Буслаев явились к нему с отчетом о наших работах для кадет: мне было поручено составить историю русской словесности и историческую к ней хрестоматию (от Петра I до нашего времени), а Федору Ивановичу – грамматику и историческую хрестоматию к древне-русской литературе (от начала до Петра I).
Только что мы хотели приступить к делу, является с визитом граф Закревский. Яков Иванович рекомендует нас, как профессоров[33 - Я не был в то время профессором: Яков Иванович хотел возвысить меня в мнении градоначальника.]. Мы отвесили ему по поклону. Граф, обратясь к нам, полу-шутя заметил:
– О! профессоры – народ бедовый, непокорливый: трудно с ними ладить,
– Нет, граф, – перебил его Ростовцев:– это не такие, это смирные[34 - Закревский подучил отставку в 1858 году, в апреле месяце, раньше 23-го числа, по поводу дозволения своей дочери от живого мужа (Нессельроде) выйдти замуж за князя Друцкого, для чего и дал им паспорт за границу («Русск. Старина», 1891 г., август, дневник Валуева, стр. 275). Вскоре после отставки, не помню в какой именно газете, явилось следующее курьезное известие: «Нам пишут из Москвы, что в нынешнем году наступила весна очень рано, так что прежде Юрьева дня выгнали скотину в поле».].
В 1856 году, в октябре, по предложению начальства военно-учебных заведений занять в академии генерального штаба преподавательское место по кафедре русской словесности, я переселился в Петербург. Тяжело и горько было мне расставаться с Москвой, после тридцати четырех-летнего в ней жительства (1822-1856). Москве я обязан университетским образованием; в ней началась моя педагогическая и литературная деятельность; в ней я нажил себе хотя не обширный, но дорогой круг друзей и знакомых, в ней, наконец, устроилось мое семейное счастие. Легко молодому человеку выносить разлуку с излюбленным местом, а ведь мне уже стукнуло без малого 50 лет: как не тосковать и не вздыхать по матушке Москве? И действительно жизнь в Петербурге долгое время была подобием сумрачной неприветливой осени после благодатного лета. Единственную отраду представляла мне возможность проводить летние вакационные месяцы в прекрасных окрестностях Москвы, что я и делал втечение пяти лет, нанимая дачу в селе Покровском, Глебова-Стрешнева, в восьми или девяти верстах от столицы. Туда же переселялся и С. М. Соловьев. Но с увеличением семейства подобные переезды оказались неудобными. Волею-неволею пришлось мне проводить вакацию в Павловске или Царском Селе. С 1869 года я уезжаю на лето к родным в Рязанскую губернию, останавливаясь в Москве на целые сутки. Надобно же, хоть раз в году, взглянуть на место моего бывшего рая.
notes
Сноски
1
Клюшников охарактеризовал его в чрезвычайно злой эпиграмме. См. также и другие свидетельства, например, в «Русск. Архиве» 1888 г., VIII, стр. 482, Письма Каткова к А. Н. Попову. Здесь Давыдов обличается в плагиате, т. е. в присвоении себе критических заметок Ф. И. Буслаева о книге Павского («Филологич. наблюдения над составом русского языка»). Впоследствии, давая отчет в «Москвитянине» о каком-то грамматическом труде Давыдова, Буслаев привел, между прочим, следующий пример: «нельзя уважать человека, который вредит другим своими проделками».
2
Ibid., стр. 493.
3
Замечу, что гр. Строгонов был иногда очень резок в своих выражениях. Резкость эта порою переходила в комизм. Однажды явился к нему какой-то провинциал, отец двух гимназистов, жаловаться на то, что его дети после экзамена не переведены в следующий класс, и при этом часто повторял одну и ту же фразу: ведь они у меня, ваше сиятельство, преумные. «Верю, верю, – отвечал граф, – должно быть, в матушку». – На одном магистерском диспуте сидел он рядом с Грановским, а против них поместился О. М. Бодянский, положив одну ногу на другую и тем выказав особенность своих сапогов, подбитых крупными гвоздями, словно подковами. Граф обратился к своему соседу: «Посмотрите, Тимофей Николаевич, как во всем оригинален Осип Максимович. Мы с вами, если нам нужны сапоги, отправляемся к сапожнику, а он заказывает их в кузнице». Но, дозволяя себе резкия выходки, граф спокойно выслушивал удачные, остроумные реплики. Вот один из нескольких примеров. В разговоре с Е. Ф. Коршем, известным многими серьезными литературными трудами, выражая ему, как редактору «Московских Ведомостей», свое неудовольствие за помещение какой-то статьи, граф, между прочим, сказал: «Поставьте себя на мое место». – Никак не могу, ваше сиятельство. – «Почему?» – Воображения не хватает: у вас шестьдесят тысяч душ.
4