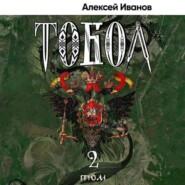По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердце Пармы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышь, храмодел, – окликнул его Ухват. – Ты говорил, будто ихний бог-олень земли касаться не может, так ему под копыта серебряные тарелки кладут… Где они?
– Там, – мотнул головой Калина.
– Семка, проверь, – распорядился Ухват и пошагал к священной ели.
Уже без всякого трепета он сунул руки в дупло и выволок Золотую Бабу. С трудом тряхнув ею, он сказал:
– С пуд-то будет… А может, и поболе. Я думал, она цельная, а она полая… Везде начет. – Он усмехнулся, оборачиваясь к Калине. – У нас в запрошлом году Федор Стратилат сгорел, так поп взял образ Симеона Столпника себе: говорит, оклад поправлю, жаром оплавило. Поправил, черт брюхатый, красивше прежнего вернул. Только брал-то литой, а вернул чеканный. Чего уж тут с нехристей спрашивать?
Калина не ответил. Ухват вытащил из дупла шатер для истукана и встряхнул его, расправляя.
– Перлы, никак? Берем. Отпорем, как бог даст час.
Он завернул Бабу в шатер, выбросив изогнутые кости каркаса, и первым двинулся прочь с мольбища.
– Шабаш, станичники! – крикнул он. – Хабар в зубы и уходим!
Станица ссыпалась с Глядена к берегу речонки. По реке Ухват и хотел добраться до насады, спрятанной на Каме. Через парму к насаде не пройти – долго, да еще ночь, да буревалы, да болота. И по дороге мимо шаманского городища не проскользнуть – собаки учуют. Проплыть речкой было единственным способом исчезнуть отсюда. Слава богу, пермякам и в голову не пришло перегородить речонку запрудой. «Дремучие людишки, на кукиш молятся, от жабы совета ждут, – ухмылялся про себя Ухват. – Ворота на засове, а забор псы подмыли…»
Ушкуйники и ратники ременными арканами начали выворачивать из земли идолов, целой рощей столпившихся на берегу. Калина молча стоял в стороне.
– Что, и кушака на аркан уж пожалеешь? – насмешливо спросил его Гаврила Михайлов и плечом налег на ближайшего болвана.
Земля затрещала. Калина глянул в лицо идола, медленно переводившего тяжелый, пугающий взгляд со звезд на него, на человека.
– Берегись! – рявкнул ушкуйник, и Калина отскочил. Идол рухнул на то место, где он только что стоял. Мимо глаз Калины пролетели, падая, черные, дикие глаза истукана.
– Забирай, – распорядился Гаврила, ногой катнув бревно Калине.
Из трех болванов Ухват связал салик и приторочил на него мешки с хабаром. Ухват должен был плыть первым, а за ним – хабар. Калина и Семка замыкали.
– Готовы? – стоя по колено в воде, спросил Ухват. – С богом!
Он толкнул плот и свою чурку на середину реки, забрел по пояс и лег в воду.
Калина замешкался. Когда на берегу остался только Семка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую тамгу на гайтане – такую же, как у князя Асыки, но поменьше. Наклонившись, он оттиснул ее на песке у воды.
– Ты чего это? – подозрительно спросил Семка.
– Это мой привет вогулам, – ответил Калина, убирая тамгу и спихивая балбана на глубину.
Семка посмотрел на отпечаток, но стереть побоялся, только плюнул в него и заторопился вслед за Калиной.
Без плеска и без шепота станичники один за другим плыли по узкой и вертлявой речке. После впадения Юрчима она стала поглубже, и теперь ноги уже не касались дна. Ветви деревьев то закрывали, то оголяли небо, и тьма вокруг то густела, то становилась реже, сквозистее. По одной, по две вдруг просверкивали звезды. Калина плыл, обняв своего идола за шею, касаясь щекой его неструганой щеки. Казалось, он что-то шепчет истукану на ухо. Но истукан не отвечал, лежа в воде лицом вверх, как покойник в гробу. Только лунные отсветы ползли по его лику, будто ему снились древние, неизъяснимые, вещие чудские сны.
По левую руку, растопорщив частоколы, вдали гусеницей прополз шаманский город, не унюхавший грабителей. А потом Чулман, дохнув свежестью, медленно всосал в себя речку. Прямо над устьем в небе льдисто пылала луна, а за ней сиял весь иконостас мироздания.
Станичники бросали идолов и гребли к берегу. Ухват уже брел по мелководью, в одиночку волоча за ремень плот с хабаром. Калина тоже соскользнул с болвана и поплыл за остальными, беззвучно раздвигая руками темную воду.
Брошенные идолы уплывали вниз по реке куда-то в неизведанную даль, но еще долго черными лучинками они виднелись в широком свечении камского плеса. Узкая и легкая насада с заломленной покуда мачтой, качаясь, выползла кормой вперед из прибрежных кустов. На мгновение остановившись, она, как крылья, расправила весла, взмахнула ими и пошла против течения, все быстрее, быстрее, и вот уже лебедем понеслась туда, где над великой рекой вечной свечкой, как душа, горела северная звезда.
Глава 5
Балбанкар
Второй месяц, изнывая от скуки, станичники жили на Балбанкаре – заброшенном болванском городище. Калина говорил, что здесь им безопаснее всего, потому что пермяки сюда не заходят. Двести лет назад пермская чудь в битве при Чулмандоре разбила нахлынувших монголов. Но через двадцать лет после этого на Каму пришел непобедимый хан Беркай и покарал пермяков, а их священный город Балбанкар – вроде Вышкара под Гляденом – предал мечу и поруганию. С тех пор Балбанкар – «плохое место», куда никто не заглянет.
Балбанкар лежал на вершине высокой прибрежной горы правой стороны Камы. Чело горы, обращенное к реке, было обрывистым и неприступным. Восточный и западный склоны круто падали в лога. На пологом северном скате виднелись друг за другом три заросших вала. Они уже расползлись, как тесто по столешнице, и от частоколов не осталось следа. Шаманы здесь заняли какое-то совсем уж непробудно-древнее городище и, устраивая кумирни, расчистили площадку, обновили диковинные выкладки из огромных бревен и въевшихся в землю валунов, обложили камнями жертвенные ямы, натыкали истуканов, отстроили дома-землянки, выгородив их заплотами из могучих заостренных плах. А теперь, через два века после Беркая, дома порушились, сгнили бревенчатые стрелы, что указывали на звезды, валуны заросли мхом, ямы осыпались, идолы перекосились.
Стояла поздняя и холодная осень. С холма Балбанкара было видно, как хмурый ветер катит волны по синим окрестным лесам, ерошит дальние пармы, треплет последние бурые космы травы под провалившимися кровлями и на полуденных склонах древних насыпей. Земля лежала изнуренная, словно бы все хотела уснуть, а сон не шел.
Голый по пояс, грязный и обросший, Ухват сидел у костра, калил на угольях нож и выжигал вшей на рубахе. Душу его что-то тревожило, а что – он не знал. Вроде все идет по сметке, без сбоев. Никто, кроме истуканов на заброшенных городищах, не заметил, как станица пробралась от Чердыни к Глядену. На Глядене топтались в татарских ичигах. Только вывели спрятанную насаду – сразу же из курьи правого берега спустили вниз по реке заранее приготовленную татарскую шибасу, которую посекли мечами и перевернули вверх дном. Ухват сам всунул между досок шибасы две медные бляхи, подобранные на Глядене. Хватятся вогулы своих сокровищ – а вот им и следы татарских сапог. Дунут вниз по реке в погоню – а вот и шибаса плывет кверху брюхом, а на ней побрякушки с Глядена. Значит, Золотую Бабу унесла татарва да тут же передралась, друг друга порубила, лодку перевернула и утопла. Ни воров, ни краденого. А уж коли вогулы все равно не поверят и кинутся к русским городам, так им в любом пермяцком горте, что по пути встретится, скажут: нет, никто не проплывал. Да и кто проплывет? Станица-то в трех днях пути от Глядена на Балбанкаре прячется! Только теперь это уже не станица, а купецкая ватага. Плыли честные торговые люди из Жукотина, налетели на топляк, струг свой угробили со всем наваром, сами едва живота не лишились. Вот, торчат тут, кукуют, ждут ледостава, потому что по берегу домой пешком не дойдешь: далеко, да грязь осенняя, да паводок на притоках, а новый струг ладить смысла нет – зима не за горами. И где-нибудь на Варвару-мученицу встанут они на лыжи, добегут по льду до ближайшей деревни, купят там нарты с упряжками – и в Чердынь. Там владыка Питирим пособит до Вычегды добраться, а в Усть-Выме князь Ермолай пошлет дальше – в Устюг, в Новгород. Все ладно, все ловко, но почему же такая тревога на душе? Почему же мнится, что кто-то следит за ними незрячим глазом? Почему же чудится, что стоит за спиной неминучая лихая беда?
Ухват вспоминал давний разговор с Калиной и злился. Накаркает храмодел, потому как, видно, задарма душу лукавому отдал и еще на чужие зарится… В день того разговора и погода была похожая: так же кипели над Камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну, которая глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел изгиб реки, как бывалая кольчуга на локте.
– Зря мы Бабу уволокли, – говорил Калина. – Не надо было трогать ее. А коли тронули – то нужно сразу в омут. Зачарует она нас, оморочит. Навяжет свою волю и сгубит.
– Креститься надо от бесьего наваждения, – пояснил Пишка.
– Не спасет. Это ведь не сатанинские дела, а вообще безбожные. Здесь, мужики, самый край божьего мира, а дальше – одни демоны творенья, которым ни наша, ни божья воля не указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние – югорские, пелымские, пермские, – те тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские, каменные.
– Так охристиянить их, гнать нечистого, – все пояснял Пишка.
– Они Христа не боятся, в них ведь не черти сидят, – усмехнулся Калина. – Их ведь и Стефан семьдесят лет назад крестил, потом Исаакий и Герасим радели, теперь в Чердыни Питирим крестит, а они все равно Николе Можаю, как идолу, губы кровью мажут… Сколько я сам церкв поднял, а все не то… Крестом их не взять. Тут сам бог остановился…
– Не доделал, что ль? – спросил вислоусый Иван Большой. – Ты, Калина, никак против святой седмицы толкуешь?
– Седмица… Господь всю вечность сотворил, а мы ее только на неделю и поняли, да и то последний день – отдых… А там, за горами, – то, что у бога дальше было, нам не понять. Тут мы без бога остаемся, лицом к лицу с вечностью…
– Ты доходчивей толкуй, – попросил Ивашка Меньшой, – а то как наш пьяный пономарь: «Покайтесь! Покайтесь!» – а в чем? Сам не знает.
– Как тут объяснить доходчиво, коли и самому все будто в сумерках?.. Ну, это словно здесь мы – как в пещере со свечкой, и свечка – вера наша. А пещера огромная, неизвестная, с чудищами. И вот нам надо либо на месте стоять, чтобы свечку не загасить, либо впотьмах путь, впереди лежащий, руками ощупывать.
– Свечку-то свою, я гляжу, ты уж давненько притушил, – недобро сказал Ухват. – Не со святых книг мудрость твоя, храмодел, а болванами нашептанная да в дыму кумирен примерещившаяся…
– Ты, Хват, мою веру не трожь, – спокойно ответил Калина. – В вере я покрепче твоего. Вот только здесь одной-то ее мало, но и господь нам пределов в вере не ставил. Так что коли я от здешней нежити свои молитвы слагаю и обряды вершу – так на то его благоволение. Когда в бурю вокруг меня Маньпупынёры пели или когда на Янкалмах я от Мертвой Шаманки прятался – не «Отче наш» помог мне, прости, господи! На каждого врага, Хват, – свой меч. Каждому диву – свое разуменье. Я свою веру нерушимой пронес и сквозь прельстительные речи шаманов, и через камлания, и против злой воли Золотой Бабы, и по судьбе своей, и в любви ламии, что пылает, как пожар, только застужает до смерти. Посмотрю я на тебя: каким ты отсюда вернешься?
Ратники слушали Калину со вниманием: им тут жить. Ушкуйники посмеивались – они здесь люди пришлые, временные. Один только Семка глаза вытаращил и рот раззявил – ну да этот дурак всему поверит, ничего не запомнит.
– Не замай, – глухо ответил Ухват Калине.
Саднящим пчелиным укусом горел в душе Ухвата этот разговор. Под хабар ушкуйники отвели маленький погребец рядом с большой, наполовину обвалившейся землянкой. В скуке и безделье, раздумывая над словами Калины, Ухват повадился таскаться в этот погребец. Усаживался на бочонок, где лежало чудское золото, зажигал лучину, всматривался в плоское и безмятежное лицо истукана и не находил в нем ни угрозы, ни знаменья. Он насмешливо щелкал Бабу в лоб ногтем и говорил: «Ну, чего выпучилась? Накося, выкуси! Вот притараню тебя домой, под молот суну, тогда и пялься, коли сможешь. И станешь ты просто куском золота, и начеканят из тебя гривн, а с ними я всю жисть шуча справлялся. Что на долги пущу, что на снаряд, а остатка хватит всей слободой до весны гулять. Болванка – ты и есть болванка, хоть и с глазами…»
Ухват был доволен своей смелостью. Никакое чудское проклятие его не пугало. Но однажды, когда он вел с Бабой такие речи, его словно обухом по темени хватануло. Так ведь вот оно, оморочье пермское! Вот ведь он сам – сидит тайком от всех, говорит с болванкой, как с живым человеком или с церковным образом, мечты свои ей поверяет, будто одобрения просит… А ведь по уговору-то Баба остается владыке и князю, а не ему и не ватаге! Швырнув идола с поставца на пол, Ухват вылетел из погреба. Два дня таращился на Каму, крестился. А потом словно пелена с глаз упала, и увидел он, что ведь каждый из станицы, кроме разве Калины, от безделья ходит глядеть на болванку. Тогда Ухват велел завалить дверь погреба землей.
Никто Ухвату не возразил, но как засыпали погреб – началась в станице такая тоска, точно мужиков от церкви отлучили. Семка целыми днями валялся и в небо смотрел. Пишка словно тронулся, все стал своему монастырю умиляться, будто это и не он, плюясь, сбежал оттуда пять лет назад. Ероха Смыка только и делал, что из лука бил по лицам истуканов, выдирал стрелы и снова бил. Гаврила какие-то корешки и корье собирал, хотел брагу варить, трижды травился до синевы и пены изо рта. Даже служивые приуныли и пропадали от зари до зари кто на охоте, кто на рыбалке.
В ту ночь Ухват сторожил, дремал у костерка. Начался мелкий дождик, Ухват промок, замерз, проснулся и полез в землянку за кошмой. Он выволок ее из-под Семки и уже откинул полог, чтобы выбраться обратно, как вдруг до него дошло, что Калины в землянке нет. Мало ли зачем Калина мог уйти, но почему он уполз тайно, через дальний пролом? И Ухват сразу заподозрил неладное. Он пощупал валявшийся армяк Калины – уже простыл. Давние подозрения опалили душу ушкуйника.