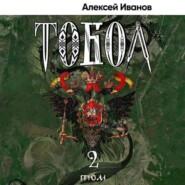По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердце Пармы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ж, Полюд, тебе с ясаком и послать некого, коли сам прикатил? – усмехнулся князь.
– Дело не в ясаке, а вот в этой кадке. – Полюд стукнул пяткой по бочонку. – Питирим просил лично приглядеть и тайно тебе из рук в руки передать.
– А что там? – заинтересовался князь. – Говори, здесь все свои.
– Помнишь, весной станицу снаряжали? Так вот, дело свое она сделала. Бабу добыла. Здесь она.
– Вот это весть так весть! – изумленно сказал Ермолай. – Ну, сотник, обрадовал! Быть тебе воеводой. А что станица?
Полюд вздохнул, невесело глянув на князя, и пальцем тихонько подвинул к нему по столу свою чарку. Князь наклонил над чаркой кувшин.
– Станица, князь, почитай, вся полегла. Ушкуйники сначала Калину и моих ратников порубили, хотели с хабаром утечь. Потом у них ватажник – Хват, помнишь его? – от раны помер. Еще двое друг друга в драке кончили. Которые двое остались, перли нарты по льду, струганину жрали, обморозились, а все равно хотели втихую мимо городков проскользнуть. С Анфала дозор их заметил – догнали. Сейчас в яме у Питирима сидят. Ну, а Бабу он велел мне до тебя свезти.
– Что ж, посмотрим, – увлеченно сказал князь, ударив кулаком в ладонь.
Полюд встал, поднял бочонок, локтем выбил дно и с усилием вытащил золотого идола. Миша подхватил бочонок, а Полюд опустил Бабу на стол и придвинул к ней светец с лучиной.
Слабый огонек осветил бревенчатые стены, лавки, ставни, плахи потолка, лица людей. Тускло замерцало золото Вагирйомы. Грубо и дико улыбалась Золотая Баба – здесь, в горнице под образами, неуместная и страшная, как отрубленная голова. Князь Ермолай спиной почувствовал, какой нерусской, нечеловеческой жутью повеяло от истукана – жутью пермяцких ропочажников и лысых вогульских тумпов, что встают над гнилыми болотами, тьмою уремной глухомани, где еловые корни, как змеи, оплетают белые черепа валунов, стужей снеговеев, в которых над погибельной тайгою проносится Войпель, пермский Перун, бог Северное Ухо.
– Тьфу на нее, прикрой! – рявкнул князь Ермолай, выдираясь из цепких лап наваждения.
Полюд, переводя дух, набросил на идола старый княжеский зипун. Князь оглянулся. Иона отодвинулся в темноту, словно прячась от медленного и неотвратимого взгляда идола. Миша сидел бледный, с приоткрытым от испуга ртом.
– Во как хватает… – произнес Полюд, разминая пальцами горло. – То-то мне ее Питирим и не показал, а прямо так в бочке сунул.
Два огонька увидел князь в дальнем темном углу горницы. Это по-кошачьи горели глаза старухи Айчейль.
– Пошла вон, карга! – И князь швырнул в нее чаркой.
Князь Ермолай думал, что в эту ночь долго не уснет, но уснул быстро и как-то ошеломительно, словно шел в сумерках, споткнулся и упал в пустую могилу. Так же внезапно он и проснулся посреди ночи. Хотелось пить. Князь протянул руку за ковшом с квасом, и в лунном свете из прорези ставни увидел, что стол пуст. Золотая Баба исчезла.
«Мишка!.. Васька!..» – Бессмысленный страх прошиб князя. Вскочив, он рванул из ножен меч, висевший на стене, и кинулся к сыновьям. Оба спали, укрывшись медвежьей шкурой. Однако старухи-вогулки на ларе, на ее обычном месте, не было.
Князь бесшумно пробежал к сеням. Дверь изнутри была заложена засовом. На крыльце хрустел снегом сторож, побрякивал трещоткой. «Значит, болванка в доме, – успокаиваясь бешенством, подумал князь. – Тащить идола в руках самой старухе не под силу, а кроме старухи из домашних про болванку никто не знал. Кому старуха могла довериться? Танег!»
Ермолай на цыпочках сбежал по лестнице в подклет. В каморе спившегося чердынского князька тлел свет. Князь подошел и распахнул дверь.
Огонек лучины плавал в спертом сивушном мареве. Танег храпел на своем топчане, свесив до земли волосатую руку. Золотой идол стоял на поставце. Зипун, которым укрыл Бабу Полюд, косо висел на углу столешницы, зацепившись воротом. А на другой лавке, где спала Танегова дочка Тичерть, сейчас поверх девочки пластом лежала старуха, прижавшись щекой к ее щеке. Князь затрясся. Глаза у обеих были открыты, губы шевелились, и какое-то полудетское-полустарческое бормотание донеслось до князя.
Князь шагнул к лавке и дернул старуху за плечо. Голова Айчейль со стуком ударилась лбом в доску, тело было как деревянное. Старуха замолкла, не шевелясь, а девочка все продолжала бормотать – глухим, скрипучим голосом старухи.
Волосы дыбом колыхнулись на голове у князя. Стуча зубами и грозя девочке мечом, он сгреб одной рукой идола под мышку, попятился и метнулся в дверь, но врезался головой в притолоку…
Он очнулся в своей горнице на полу. Меч в ножнах висел на стене. Истукан стоял там, где его вчера поставил Полюд, – на столе у окна. Князю хотелось пить.
Он поднялся, выпил квасу, вытер ледяной пот и пошел к сыновьям. Мишка и Васька спали под шкурой. Айчейль лежала на ларе и постанывала во сне. Князь заглянул в сени: дверь на засове, колотушка бренчит у ворот. Князь спустился в подклет. Под дверью каморы Танега светилась полоска. Князь заглянул в камору. Танег храпел, свесив руку до земли. Девочка сопела на лавке, повернувшись лицом к стене. А с угла поставца свисал старый зипун князя.
Ермолай застонал, как подраненный. Вернувшись к себе, он снова долго пил квас. Потом, встав на колени, молился перед божницей, крестил углы, дверь, окно, свой лежак, даже золотого истукана. А затем без сил повалился и уснул.
Ему приснился заснеженный еловый лес под луной – словно разбитое зеркало: то ослепительно блещет, а то глухая, непроглядная, угловатая тьма. По снегу на лыжах бежала Айчейль. Она была одета так же, как в доме: в каких-то шароварах, в рубахе, с тремя кожаными чехлами для кос и в трех платках, по-разному повязанных вокруг головы. Старуха бежала без рукавиц, хотя от стужи в лесу лопались деревья. Волчья стая неслась вокруг Айчейль; волки иногда оглядывались на старуху, светя желтыми глазами. Не уставая, Айчейль летела по прогалинам и еланям, по снеговым полям, скатывалась со склонов холмов, ведьмой петляла по извилистым долинам речушек. Над землей пылали злые вогульские звезды, и луна была как блюдо, прибитое вместо лица у болвана.
Старуха выбежала на опушку, где высились темные копны чумов. Лежа в снегу, вместе спали собаки и олени. Торчали из сугробов поставленные на попа нарты. Костры погасли. Старуха направилась к самому большому чуму. Полог его откинулся. На входе стоял высокий человек с бледным безбородым лицом, с длинными темными волосами, с рогатым оленьим черепом на голове.
– Здравствуй, князь Асыка, муж мой, – молодым, певучим голосом сказала старуха, останавливаясь.
– Здравствуй, ламия Айчейль, жена моя, – ответил человек в оленьем рогатом черепе.
Айчейль повернула голову, и Ермолай увидел ее лицо – молодое, прекрасное, дивно-прекрасное и смертельно-страшное, ярким и беспощадным взглядом похожее на лик Золотой Бабы.
– И ты здравствуй, князь Ермолай, враг мой, – улыбаясь, сказала Айчейль.
Князь дернулся и проснулся. Рассвет нежными розовыми лучами из-под ставен веером разошелся по сумеречно светлеющей горнице.
Весь день эти полусны-полуявь не выходили из головы князя. Делами он занимался как в тумане. «Эй, Полюд, опохмелил бы его, что ли», – ухмыляясь, шепнул чердынскому сотнику Лукашка.
Вечером княжич Миша остановил отца в сенях.
– Батюшка, – спросил он, – а где сказочница наша? Целый день не показывалась…
Старуху-вогулку искали по всему терему, по всей усадьбе, потом по всему детинцу, кричали о ней на торгу – не нашли. Да еще в сарае пропали старые лыжи.
Глава 7
Владыка
«Стефан соврал, желая славы, а Епифаний трижды соврал… Не веруют они. Не веровали и не будут», – озлобленно думал епископ Питирим. Подметая сугробы полами бобровой шубы, он выхаживал над кручей по узкой тропинке, проложенной вдоль частоколов Чердынского острожка. Над головой владыки острия тына пропахивали извилистые борозды в низких темных тучах. Под ногами гудел ветер, раздувавший на снежной долине Колвы метельные водовороты. Сквозь дым непогоды мутно темнели дальние леса. Наклонив голову и разметав по плечам длинные космы, епископ угрюмо вышагивал от Тайницкой башни до Спасской и обратно, поджидая Ничейку.
Такой уж день был сегодня – проклятый. Ровно тринадцать лет назад прямо во время службы мальчишка-зырянин удавил пермского епископа Герасима омофором. Герасим был третьим пермским епископом – после Стефана и Исаакия. Питирим его не знал. Он видел лишь скромный крест с двускатной кровлей и иконкой, стоящий у алтарной стены Благовещенского собора в Усть-Выме. Питирим преемствовал Герасиму, и его шибало в тоску и злобу от мысли, что и его жизненный путь завершится таким же крестом у того же алтаря.
«К бесам эту идолскую пермскую землю!» – плевался Питирим. Тринадцать лет назад он и не чаял, что окажется здесь. Грехи утянули: и пожертвованиями попользовался, и винцо уважал, и бабий пол туда же… Но что непростительно игумену Чудова монастыря, то простится Пермскому епископу. Потому сдуру и сунулся сюда, сатане за пазуху. Вот и околачивается тринадцать лет.
Епархия-то плюгавенькая, вроде и забот никаких. Четыре монастыря, семнадцать приходов – и сорок сороков верст вокруг. Питирим рассчитывал пересидеть здесь, в глуши, опасные времена, – да и обратно на Русь. Куда там! И грамоты писал, и лично молил – шиш, не отпускали. Хотел трудами, смирением перевода заслужить, слово о митрополите Алексие составил – и опять без толку. Тогда в козни ударился. В ту пору митрополит Исидор, грек из Солуня, хотел Русь Папе Римскому отдать, а за то был низложен и заточен, но потом бежал. Православная же церковь откололась от ромейского патриарха. Семь лет назад на Московском соборе в первые русские митрополиты выбрали Иону Рязанского. Он, Питирим Пермский, да еще епископы Ефрем Ростовский, Авраам Суздальский и Варлаам Коломенский кричали за Иону. Питирим был уверен, что в благодарность митрополит Иона вытащит его из Перми. Не вытащил. Питирим пропадал заживо. Пил, буянил, бесчинствовал, потом грехи лютые замаливал, каялся, сам на себя епитимьи накладывал – все равно и митрополит, и сам господь забыли о живой душе, мятущейся среди этих гор, лесов и рек.
«Ну и к дьяволу все, – решил Питирим. – Коли ни с правой, ни с левой ноги шагнуть не даете, я шагну сразу обеими. И через подкуп буду действовать, и подвиг совершу».
Год назад Ничейка нашептал епископу, что этим летом вогульский князь Асыка привезет на Гляден Золотую Бабу. Питирим предложил князю Ермолаю замысел, как ее выкрасть. Ермолай согласился, набрал станицу – надежных ушкуйников и ратных людей. Питирим дал станице проводника – храмодела Ваську Калину. С Калиной Питирим познакомился в Соликамске; Калина поставил там Троицкую церковь, а Питирим приехал ее освятить. Со всей этой затеи с Золотой Бабой князь Ермолай обещал Питириму долю.
Станица ушла. Питирим ждал ее в Чердыни, Ермолай – в Усть-Выме. Месяц назад в Чердынь приехал из Анфаловского городка тамошний есаул Кривонос. Анфаловские поймали на камском льду двух оставшихся от станицы ушкуйников, уходивших с хабаром, – Семку и Пишку. Кривонос пригнал разбойников и привез отбитый хабар: Бабу, бочонок с побрякушками и три кошеля монет. «Я ж Ухвату пять кошелей давал», – напомнил Кривоносу Питирим. «У него и спроси, где недостача», – ухмыльнулся Кривонос. Питирим дал ему еще кошель, чтобы молчал о двух оставшихся и бочонке. Кривонос понимающе хмыкнул и уехал. Питирим закопал хабар в погребе. Теперь с такими деньгами он сможет сложить с себя сан, вернуться на Русь, основать тихую обитель и безбедно жить там, пока бог не приберет. Полюд по указу Питирима замкнул Семку и Пишку в пустой амбар, а сам повез идолицу в Усть-Вым князю.
Питирим, конечно, мог бы и с Полюдом уехать. Но хотелось поберечься от неудач, особенно когда деньгой разжился. Надо бы еще и дело какое богоугодное совершить, чтобы митрополит на его бегство из Перми не прогневался. Да и опаска перед всевышним тоже… Видно, хоть совесть и сплошь в заплатках, а держит еще божий ветер. Питирим решил вновь покрестить Пермь Великую. Уж за такой-то подвиг должны его перевести куда поближе к митрополиту!..
Но крещение не удалось. Через овраг, сквозь снежную мглу, Питирим глядел на языческую Чердынь, венчавшую высокий холм. Городище здоровенное, куда там до него полупустому русскому острожку. Чердынь, столица Перми Великой… Питирим со злорадством усмехнулся, вспомнив, что князь этой земли спивается в подклете у Ермолая Вымского. Русскому глазу Питирима дико было глядеть на языческий город. Стена из нескольких рядов заостренных кольев, торчавших вкривь и вкось, как широкая щетка, опоясывала вершину горы. Питирим знал, что изнутри к этой стене была еще привалена насыпь, покрытая бревенчатым накатом. Над стеной вставали сторожевые вышки, похожие на грачиные гнезда, поднявшиеся на ходули. Высокий частокол скрывал гущу тесно столпившихся односкатных хибар, поверху крытых берестой, корой, дерном. Новое городище заслоняло собой старое, порушенное, что топорщилось на третьем холме. Чердынь казалась епископу не людским поселением, а каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом. Это по указу епископа в знак крещения Перми Великой перед уходом на Гляден Калина – царствие ему небесное – поставил в Чердыни часовню. Питирим перенес туда икону Живоначальной Троицы Стефанова письма. Да вот только ни икона, ни часовня ничего не значили.
Пермяки охотно купались в Колве, надевали кресты, кланялись в часовне иконам. «Русский друг – друг сильный, – говорили они. – Мы будем чтить его бога». Потом Питирим уехал по приходам – в Анфал и на Яйву, в Соликамск, в Мошевы и Аниковские деревни, в Верх-Усолку и Усть-Боровую. Когда же он вернулся, дверь в часовню была оплетена паутиной. «Смотри, где мы молились, – оправдывались пермяки, ведя Питирима на свое святилище. – Вот, гляди, твоему богу мы нового идола поставили и дары ему щедрые принесли, золото». В бешенстве Питирим изрубил Христа-идола на щепки.
Он прочел пермякам Евангелие. Они не поняли, что такое фарисеи, синедрион, прокуратор. Питирим пересказал им своими словами, поражаясь, как святотатственно звучит его переложение на чужой язык и чужой быт. «Хороший человек, – одобрили Христа пермяки. – Правильно богов чтит и верно судьбу свою понимает, не прячется от нее, не путает следов. Несомненно, Войпель отнесет все четыре его души-птицы на верхнее небо, а пятую душу – голубя, как ты нам сказал, – вложит в грудь здоровому и красивому младенцу». «Грех!» – орал Питирим, расталкивая пермяков и уходя прочь.
Тогда мириться к нему пришел ихний мудрец – седой и слепой старик, которого вела дочь. «Ты говоришь непонятные нам вещи, – сказал он. – Что такое грех? Человек идет по судьбе, как по дороге. С одной стороны – стена, с другой – обрыв; свернуть нельзя. Можно идти быстрее или медленнее, но нельзя не идти. Что же тогда это такое – грех?»