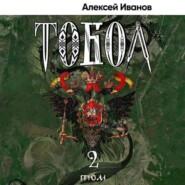По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердце Пармы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оторвав от Танега Тичерть, Полюд перебросил девочку через плечо, подхватил под мышку княжича и поволок обоих через дым пожара к воротам.
– Князя убили! – крикнул он. – Я княжат в собор потащу!
Он бежал по улочкам, левой рукой придерживая на плече девчонку, а правой волоча за собой Мишу. Миша бежал за Полюдом, спотыкался, ревел и размазывал по лицу сажу, слезы, кровь. Дым сизыми гривами полз вдоль стен и заплотов. За углами домов, за концами стропил, за коньками крыш в красно-сизой мгле поднимался, как дракон, многоглавый собор.
На площади суетились бабы, втаскивая раненых по узкой и крутой лестнице в притвор. Стон мешался с рыданиями, молитвы с матерными проклятьями. Бил колокол, словно отсчитывал последние удары сердца городка Усть-Вым.
Полюд затащил детей наверх, в храм. Здесь горели все свечи, непролазной толпой стояли на коленях и молились люди, истово пел поп. От человеческого дыхания, от дыма пожара, от ладана и свеч страшная духота сдавила горло.
– Здесь будьте! – толкнув детей под иконы, рявкнул Полюд, перекрикивая гам, и ринулся обратно.
Дикий бабий визг с лестницы и гульбища, треск досок, чужой боевой клич, донесшийся с площади, встряхнули Мишу, заставляя очнуться. Бабы рвались в дверь как стадо, топча друг друга и раненых, пластая одежду, выдирая косы. В проеме вновь появилась широкая кольчужная спина Полюда. С ревом швырнув кого-то косматого через перила рундука, Полюд влетел в храм и захлопнул тяжелую окованную дверь, грохнул железным засовом. Расталкивая людей, Полюд принялся заваливать дверь лавками. Несколько могучих ударов извне сотрясли косяк, но затем за стеной раздался хруст и дружный вопль – это крыльцо собора, не выдержав тяжести, рухнуло. Вогулы, захватившие площадь, осадили запертый, неприступный собор. Колокол прогудел еще несколькими угасающими ударами и смолк – пробитый стрелами пономарь упал со звонницы к полозьям вогульских нарт.
Полюд протолкался к Мише и сел рядом с ним на пол, обняв его рукой и привалившись к стене.
– Ну, все, князь, – весело сказал он, впервые называя Мишу князем. – Сейчас будут нас жарить.
Вогулов на площади все прибывало. Усть-Вым горел. Собор стоял в дыму. Было слышно, как в нем поют и плачут. Вогулы потащили вязанки хвороста, сено с сеновалов, дрова из поленниц, разбитые прясла заборов, полосы бересты и луба с кровель. Все это они сваливали под стены храма, а потом в эту кучу полетели головни. Огонь, разбегаясь, кольцом охватил здание. Очертания его в дыму заколебались. Казалось, что собор на огне всплывает над землей.
Сквозь непроконопаченные щели дым пополз по трапезной, по молельной. Грозно потемнели лики на иконостасе, съежились язычки свечей. Малиновое зарево заката в окошках приобрело мертвенный синеватый оттенок и задрожало в потоках раскаленного воздуха. В гомоне молитв, стона, плача раздались вопли ужаса и кашель, заревели дети. Становилось все жарче. Миша взглянул на Полюда, измученно прикрывшего глаза. Лицо его было мокро; русые волосы рассыпались и прилипли к вискам, ко лбу. Тичерть тяжело дышала, раскрыв рот, и бессмысленно пялилась перед собой сквозь свисавшие с бровей черные пряди, словно она перепарилась в бане. Потолок поплыл в Мишиных глазах, колесом закрутилось расписное «небо» со спицами-тяблами. Красный туман заклубился по краям зрения.
И тут из подклета сквозь плахи настила ударили белые струи дыма от вспыхнувшей под храмом рухляди – соболиных, песцовых, горностаевых, куньих, лисьих, бобровых, беличьих мехов. И разом лопнула сила, сдерживавшая людей перед лицом гибели. В общем диком реве народ заметался по бревенчатой коробке храма. Кто-то валился на колени, кого-то топтали, кто-то полез на стены. В удушающей мгле скакали адские тени. Вышибли дверь – дым качнулся наружу, и тотчас из-под ног вверх по стенам шарахнуло пламя.
Ругаясь и хрипя, Полюд вскочил, поднимая Мишу и Тичерть. Он боком ломанулся сквозь ослепленную, обожженную, ошалелую толпу. Люди рвались к дверному проему и вываливались, выпрыгивали наружу из устья бревенчатой печи, но еще в полете их насквозь пробивали поющие вогульские стрелы. Полюд наперекор всем вывернулся к алтарю, вскочил на амвон и выдернул к себе детей. Мимо на коленях прополз поп, он удушенно сипел и путался в рясе. Люди кучами лежали на полу, трепыхаясь, как выловленная рыба. В притворе орали, перекатываясь, горящие бабы. Храм был весь освещен пламенем пылающих стен. Воздух обжигал грудь.
– Туда! – указывая на высокое окошко, приказал Мише Полюд и кинул его на иконостас. Миша вцепился в резьбу рам, как репей в одежду, и по чинам пополз наверх. Оглянувшись, он увидел, что Полюд карабкается за ним, а на его спине висит Тичерть.
Миша протиснулся в узкий проем и сел верхом. Чистый морозный воздух полоснул его изнутри ножом по ребрам. Храм стоял на круче над Вымью, одной стеной выходя за старый тын. Внизу под ногами Миши была высота в десять сажен до вымского льда, но половину ее съедал крутой, заваленный снегом склон.
– Давай, князь! – прохрипел сзади Полюд.
Миша перекинул другую ногу через оконный проем и прыгнул вниз. Мелькнуло перед глазами небо и чертово гнездо Йемдынского городища. Миша по пояс вонзился в сугроб, стронул его и в лавине снега выкатился на лед. Он тотчас поднял голову, отплевываясь, вытирая лицо, и увидел, что по склону на него уже налетает вихрь, в котором барахталась Тичерть. А из маленького окошка в высокой бревенчатой стене, из зарева, словно черт из пекла, лезет дымящийся Полюд.
Втроем они опрометью перебежали вечереющую Вымь и нырнули в лозняк под кручей йемдынского берега. И оттуда они молча глядели, как на стрелке двух рек огромным костром горит до неба русский городок. Огонь пожара сливался с огнем заката, и над Йемдыном кроваво лучились звезды, словно разлетевшиеся с пожарища угли. И Миша не плакал, глядя из кустов, как гибнет город его отца. Миша чувствовал, что пламя этого пожара еще осветит всю его жизнь, а пока что оно уже высушило все слезы.
Часть 2
Глава 9
Пусто свято место
От всех жителей городка, основанного еще Стефаном, уцелело всего человек тридцать посадских и семеро израненных ратников. Их приютили зыряне в своих керку, когда вогулы ушли. Йемдын, видно, чувствовал свою вину за то, что робко спрятался в сугробах, когда русский городок дрался с врагом. Пермяки и русские вместе собрали на пепелище Усть-Выма обугленные кости убитых и сожженных и погребли их в общей могиле. Над могилой скатали из обгорелых бревен часовенку – Неопалимого Спаса на скудельне.
С Вычегды пермский человечек Ничейка привез на нартах одеревеневшее тело распятого епископа Питирима. Его похоронили рядом с развалинами алтаря Благовещенского собора, где уже торчал пенек сгоревшего креста на могиле епископа Герасима. Игумен Ульяновского монастыря отец Иона в часовне Неопалимого Спаса венчал Ермолаевых княжат на княжение. Сотник Рогожа привез с Печоры княжича Ваську, и теперь Васька стал князем Перми Старой Вычегодской. Сотник Полюд увозил княжича Мишу на Колву, и теперь Миша стал князем Перми Великой Камской.
Пермь Великая встретила нового князя молча и настороженно. Миша разослал тиунов, призывая к себе пермских князьцов. В Чердынь съехались все десять – не торопясь, но и не пренебрегая. Миша объявил пермякам волю Москвы. Пермские князьцы смотрели на него и видели отрока четырнадцати лет, который выступил один против всех, поддерживаемый только именем: «волею Великого князя Московского удельный князь Михаил Великопермский». Ничего не ответив, пермяки разъехались по своим увтырам и городищам. Ясака в тот год никто не дал.
Зимой Москва прислала Мише думного дьяка Морковникова. И Морковников, и Полюд советовали Мише держать круче. Летом на Пермь за хабаром пришли новгородцы. Полюд с ушкуйниками отправился от Чердыни вниз по рекам, разорил и насильно взял ясак с Редикора, Губдора, Сурмога и Пянтега. Миша намеренно не тронул близлежащую Покчу, и та вскоре сама принесла положенные сорока. Но пермяки разволновались и осенью съехались на совет в Янидор, куда пригласили и молодого князя русских. Миша приехал с Полюдом, Морковниковым и тремя дружинниками, напоказ оставляя себя без воинской защиты. Пермские князья привезли с собой шамана – нового пама, заменившего убитого на Глядене. Пам был глух. Он сам медным гвоздем пробил себе уши, чтобы лучше слышать голоса богов.
– Вас, роччиз, как друзей мы пустили жить на наших землях – в Чердыни и Анфале, – сказали Мише пермские князья, – а вы грабите нас, и нет у вас к нам уважения. Уходите тогда жить вниз по Каме, на пустые земли, где мало наших селений, где проклятые пепелища Кужмангорта, где стоит ваш Соликамск.
– Мы не уйдем, – ответил Миша. – И мы обяжем вас платить нам ясак.
Князья внимательно смотрели на худенького пятнадцатилетнего юношу.
– Почему мы должны платить вам?
– Потому что Москва сильнее всех.
– Остяки говорят, что сильнее всех Игрим. Вогулы – что Пелым. Сибирцы – что Искер. Татары – что Казань. Поморы – что Новгород. Вотяки – что Вятка. Даже ногаи говорят, что они сильнее всех, хотя у них нет своего города и они кочуют по земле, как дикие животные. А твоя Москва дальше, чем Пелым, и Новгород, и Казань, и другие города. Почему же мы должны давать ей ясак?
– Отдайте ему, чего он просит, – вдруг сказал пам, который ничего не слышал.
Князья удивленно молчали. Они не очень доверяли новому паму, потому что его слова часто были совсем не к месту.
– Хорошо, – наконец сказал пянтежский князь Пемдан, по смерти Танега исполнявший роль верховного князя. – На будущий год мы дадим тебе половинный ясак. А потом ты докажешь нам, что ты – самый сильный.
– Сила – это тяжесть, – обращаясь к Мише, сказал шаман. – Ищи ношу по плечу.
На следующий год Морковников поехал собирать ясак. Из Искора дьяка привезли мертвым. В окостеневшей руке у него был зажат мешочек с мышиными шкурками. Полюд с дружиной пошел на Искор. Городище высилось на неприступной скале, единственный подъем на которую преграждали пять могучих валов с частоколами. Горделиво и насмешливо смотрели из-за тына на пришельцев искорские истуканы. Полюд повернул дружину обратно. Мише исполнилось шестнадцать.
Миновала осень, потом зима, заканчивалась весна, и опять никто не вез ясак. Москва прислала гневную грамоту, перечислив недоимки. Князь жил иждивением ратников и промысловиков соликамских починков. Новый ясак придется собирать с боем. Однако промышленным людям не было дела до княжеских забот, а ратники брали в жены пермских девок, садились на землю, обзаводились хозяйством и не хотели класть головы почем зря. Полюд почти насильно собрал сотню и повел ее на пермские городища, каждое из которых могло выставить столько же, если не больше, защитников. Но и пермяки не горели желанием сразиться. Покча откупилась, выдав соболей. Ныроб не стал ждать и тоже откупился. Дело дошло до гордого, самоуверенного Искора.
Искорский князь Качаим вывел из городища свою дружину. Княжья сотня и пермское войско стояли друг напротив друга. Полюд ждал нападения пермяков, потому что своих было меньше, а нападающий обычно несет большие потери. Бой никак не начинался. Тогда Михаил выехал вперед и знаком подозвал к себе Качаима.
– Смотри, князь Коча, – по-пермски сказал он. – Сейчас мы начнем сражаться, и погибнет сто человек. Благодаря этому ты потеряешь – или, наоборот, сохранишь – тридцать песцовых шкурок. Это неправедная цена. Оставь песцов себе. Я увожу свою сотню.
Ратники вернулись в Чердынь. А вскоре из Искора приехал сын Качаима княжич Бурмот и привез сто соболей.
– Мой отец велел сказать тебе, князь Михаил, что он, пока жив, будет платить тебе ясак, – передал Бурмот. – А мне он велел жить с тобой и защитить тебя, если нападет твой враг.
Потом привезли ясак и другие князья. Михаилу исполнилось семнадцать.
Лето выдалось жаркое, по лесам шел пал, трава сохла на корню, зверье разбегалось. Зимой треснули такие холода, что тайга вымерла. Пермяки голодали. Миша и сам исхудал так, что ходил с палкой.
Весной князья съехались в Чердынь. «Ты по душе нам, русский князь, – сказали пермяки. – Твой разум далеко превосходит твои года. Нам не хотелось бы терять тебя оттого, что русский кан заменит тебя другим князем, который сможет посылать ему больший ясак. Но мы не можем дать тебе даже прежнюю малую дань. Парма пуста, мы едим траву и рыбу. А нам нужно платить и новгородцам, которые скоро придут, и харадж татарам. К тому же на пермские горты уже точат зубы вогулы и остяки, башкорты и вятка. Защити нас хотя бы от новгородцев и татар, и тогда твой кан всегда будет тобой доволен».
Ушкуйники ходили в Пермь каждые три-четыре года, иногда и чаще. Они торговали, но если удавалось – грабили. Их отчаянные ватаги не знали ни чести, ни жалости. Когда они плыли по реке, пермяки целыми деревнями уходили в тайгу, оставляя на грабеж и сожжение все свое добро. Михаил решил встретить новгородцев на Колве.
На перекате возле крохотной деревушки из трех замшелых керку Михаил велел ставить цепию. Его ратники на мелководье вбили колья поперек реки, а на стрежне перегородили путь веревкой, продетой сквозь чурбаки-кибасья. По приказу Михаила за Фадиной деревней через Вишерку повалили сосну и прибили к ней доску, на которой было вырезано: «Поворачивай. Московская земля». Вскоре лазутчик донес: ушкуйники сдвинули сосну и плывут дальше.
Они плыли мимо колвинских утесов длинной вереницей, один за другим, стоя в ушкуях с веслами в руках. Кожаные запоны от колен до груди, широкие рукавицы, упрямые синие глаза под косматыми бровями… Ратники прятались в кустах перед цепией. Михаил открыто сидел на валуне у воды. Ветер шевелил над ним хоругвь: Георгий пронзает змия. Московский знак.
Полюд разбойничье свистнул в два пальца. Тупые стрелы скользнули в полет с обоих берегов, сшибая ушкуйников в воду. Передние повалились, переворачивая лодки. Те, что посередке, смешались: кто-то рванулся вперед, врезался в кибасья и тоже бултыхнулся в Колву; кто-то бросил весло, помогая товарищу перебраться через борт; кто-то кинулся назад, под защиту. На задних ушкуях новгородцы вытаскивали луки. В таких били стрелами с наконечниками.
У кольев и у цепии болтались на воде перевернутые ушкуи, весла, стрелы. Уцелевшие новгородцы повернули лодки и угребали назад, против реки. Пермские насады прошлись по Колве, вытаскивая из ледяной воды барахтающихся ушкуйников. Насады плыли над мертвецами и утопленниками, лежащими на дне, как спящие. Их было видно, когда отвесные лучи полуденного солнца насквозь пронзали глубину. Новгородцев набралось десятков пять. Десятка два утекли да столько же погибло. «Ступайте, молодцы, восвояси, – сказал ушкуйникам Михаил. – И передайте боярам да посадским в Новгороде, что отныне кончилась здесь дармовщинка и не будет ни ясака, ни хабара, а коли торговать захотите – не забывайте Московскому князю пошлину платить, вира дороже станет».
В тот год Михаилу исполнилось восемнадцать. Наступившим летом он хотел уладить и дело с татарами, но это оказалось сложнее, чем пострелять ушкуйников. Татары сидели в крепостях – в Ибыре и Афкуле, а свой харадж начали собирать с пермяков еще задолго до прихода московитов. Ссориться с татарскими шибанами князь Михаил не хотел: до Москвы и на помеле не доберешься, а Казань рядом. Михаил поехал на переговоры и, простояв станом три дня у запертых ворот Афкуля, вернулся ни с чем – шибан Мансур праздновал очередную свадьбу и говорить о делах не пожелал. На две грамоты русского князя он ответил тем, что содрал с пермяков такой харадж, от какого вместо соболей пермяки начали отдавать баскакам девчонок. Отписав все, как есть, приложив два жалких сорока соболей и чернобурок, Михаил с первым льдом направил в Москву гонца, прося у князя Василия войска.