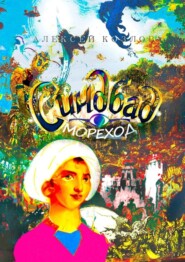По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Городъ Нежнотраховъ, Большая Дворянская, Ferflucht Platz
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почти ничего! Только то, что он был очень музыкален и талантлив!
– Как Эльза Бо?
– Как Эльза!
– Как Маргин Чик?
– Как Маргин!
– А ну их всех на…
…А потом я проснулся, загрустил, ибо вспомнилось мне история, которую я долго гнал из головы…
Это была история человека, чьи способности были направлены на лёгкое уцелевание в мире. Такие истории очень часто встречаются в мире, несть им числа. В общем, история банальная – Я доверился человеку, и он меня подвёл и нагло обманул – что может быть обыденнее такой истории. Я был обманут так подло и неправедно, что даже теперь при воспоминании о моём позоре мне становится дурно за себя-дурака и за этих бессовестных людей. Я уверен, что провидение позаботиться о возмездии этим подлюкам. У… их всех с чадами и домочадцами!
Глава 10
Продолжающая повествание о местечковом Проходимце Дурновском и его прикольным похождениям по Срединной Фиглелэнда в мокрых штанах.
В некоем году нового тысячелетия на рынке довольно жлобовского города Нежнотрахова произошла весьма знаменательная встреча. Произошла она прямо при выходе из рынка на довольно большую площадь, примыкавшую к рынку. Первым, который только заходил на рынок с довольно объёмистой сумкой, был Алесь Хитляр, как мы уже хорошо знаем, среднего роста человек с начинающей седеть шевелюрой. Второй, который на некоторое время задержался у газетного лотка, был старый анурей с белокурой, потрёпанной временем копной на голове, одетый надо сказать с иголочки – в светлую очень приличную кукртку и такие же брюки. Вид его говорил о довольстве жизнью и о годах, прожитых без малейшлих угрызений совести. Это был плут Лёпа ибн Мокей Дурновский, долгое время промышлявший преподаванием какой-то херни в одном из вузов родного города.
Есть бедные люди! Но есть здесь и весьма состоятельное отребье, вот хотя бы наш кучерявенький Леопольд Кмокшеевич Дурновский. Нет-нет! Вы не туда смотрите! Он здесь на предметном столике! Понаблюдаем за ним сквозь наш отменный чешской микроскоп! Да-с! Картина, достойная внимания, хочу заметить!
Сразу скажу вам, дорогой читатель, что он большой оригинал. Когда видишь его, то кажется, что он дышит не воздухом, а дерьмом!
Сегодня под утро Дурновскому приснился сон: будто он с молоденькой клевреткой Соней барахтается в своей королевской кровати, пытаясь изобразить невозможную эрекцию, и некто, как ангел всё происходящее освещает фонариком. И как будто бы нет неумолимой чугунной плиты семидесяти с лишним лет, давящей на его героические плечи, как будто бы крылья юности снова расцвели за его кошерной спинкой, и как будто бы вчера была пятница, а сегодня – не суббота, и он таким образом, как правоверный ворей, обманул опять-таки мировую историю. Надо сказать, клевретка оказалась очень миленькой и страсть аж какой живенькой. Он её и так, и этак, и ах и ох, и фонариком в такт туда-сюда подмахивает, и с великим удовольствием минут через десять арию и приключение как бы закончил. Тут, ба, разом врубается свет, прожектора прямо на них, толпа скандирует, ревёт и хлопает: «Бис!» Бис! Браво!», а голос через трубу бойко объявляет: «Господа! Вы на сцене! поприветствуем наших номинантов! Номер семь представлял престарелый юнга Леопольд Дурновский и студентка Наташа Вовкина с сексуальной композицией «Морской бриз»! Его хватило на семь минут прелюдии и две минуты довольно-таки квёлых фрикций! Судей прошу ставить оценки!!! Госпожа Буратинская! Ваше слово! Поаплодируем нашему юному конкурсанту и его юной напарнице!»
И Дурновский проснулся в поту.
Итак, читаетль уже получил первое впечатление о нашем новом персонаже и готов дальше глотать информацию.
Старость у мерзопакостного старикана не была ни бедной, ни голодной, ни наполненной заслуженными угрызениями совести, и автор просто вынужден обратиться к Богу: «Господи! Если Ты есть, и если Ты уважаешь себя, то когда же ты уберёшь с лица земли эту грязную мразь?»
Вот сейчас наш Леопольд ползёт вдоль своей Технокосмополической Академии, где когда-то друшлял не по-хилому! Вы не знаете Леопольда Дурновского? Ба! Большая потеря! Честное слово – великая потеря! Я не шучу! Нет, это не король Польши и не герцог Франции! Нет! Уж куда дальше! Отребье из отребьев! А вежливый, вкрадчивый какой! Манеры мягкие, речь не без приятности, знакомства завязывает на месте! Белая баранья шевелюра на голове! Красота неимоверная, готовая спасать мир! Настоящий интеррнационалист! Старый сучок! Он и сынка свого назвал не то Мариком, не то ещё мерзее в честь ресторана во Франции, о котором всю жизнь небось мечтал и в который путь ему, старому гниде, был полностью заказан. Фигу вам, суки! Фигу! Если такие сволочи будут в этом ресторане жрать, значит Бога на свете точно нет!
Ну, это я так, из себя вышел, потому что мне вспоминать это отродье – всё равно что перед зрителями сколопендр целый день есть! Я сначала не хотел об этом типе рассказывать, а потом подумал: «Если такие типы существуют, прекрасно устраиваются в жизни, рушат жизни других, то либо мы слишком добры, либо…? Но долг исполнить надо и – запечатлеть этот незабываемый тип нерусских людей на скользких скрижалях истории, дабы другим неповадно было.
Итак…
29 июня 200 какого-то года в купе пассажирского поезда Нежнотрахов – Нусеква, отправлявшегося каждый божий день по назначению, совершенно произошла встреча бывших одноклассников. Они не виделись тридцать два года, поэтому прежде чем обрадоваться, несказанно удивились и только потом, когда их беседа зашла далеко за полночь, почувствовали, что по-настоящему рады друг другу. Один ехал в Москву по делам своей строительной конторы, не то подписывать договора о поставке партии резиновых шпутцеров для вновь вводимого объекта «Центр Досуга и Отдыха Проституток», «ЦДИОП» кратко, другой ехал развлечься одним днём, ибо на службу не ходил. Когда они учились в школе, давление школьных казематов, железные указки учителей, весь этот дух казённого подчинения ужасал их, пригибал головы и того, и другого, теперь же, по мере того, как стук колёс становился привычным, они по-новому и более глубоко переживали произошедшее с ними и вспоминали свою жизнь. Им было что сказать друг другу, Сначала их вопросы, их ответы были почти сумбурными, первая доза алкоголя фейерверком пронеслась в их головах, и только потом их рассказы стали довольно плавными. Мы застали их за второй частью разговора, и совершенно не жалко, что первая часть его канет в лету, не найдя своего Светония. Зато вторая не пропадёт даром! А она стоит того! И вот о чём поведали нам разговоры этих двух достойнейших из смертных:
.Некогда, в тусклые и очень тяжёлые времена, последовавшие за чудовищной и крайне прискорбной революцией, в Одессе жил маленький курчавый мальчик. Звали мальчика Лёпа Дурновский. Его предком был знаменитый польский проходимец и вор Арапиздонт Дурновский, который не только отличился шкурничеством во времена правления Ольбрыхских и Маневичей, но и сам попал в тюрьму. На его самоуважении и понимании роли в мировом анарействе пребывание в тюрьме никакого влияния не оказало, и он гордо носил Имя и Отчество Абрахам Мойкевич. В детстве, как многие представители его семейства, он был толст, неприятен на вид, неряшлив, что в дальнейшем прослеживалось неоднократно в развитии особей этой семейки, имел довольно уродливое лицо, широкий таз и короткие ноги, но в юности неожиданно похорошел, приобрёл выправку и стройность, позволившую ему нравиться с определённого времени разным девушкам. Его родители были из самого низкого местечкового сословия, и поэтому революция, свернувшая столько русских судеб в сугроб, им пошла только на пользу, открыв невиданные ранее возможности. Мать его была толстой глупой домохозяйкой, а отец по понятной причине, связанной с его причудливой национальностью был не то комиссаром в армии, не то пропагандистом в тылу, не то ещё невесть чем. Подлинно известно то, что в итоге этих протрубаций, в начале Континентальной войны он уже неистово сокрушал измену в СМЕРШе, а попросту гнобил бедных славян, уставших от войны и начинавших вякать о своих печалях. У Лёпы была сестра, младшенькая Лифа. Мальчик он был резвый, с раннего возраста себе на уме и, надо отдать ему должное, не без некоторых талантов, или вернее, сноровки, нередких в небогатых анарейских местечковых семействах. Тяжкие годы войны, при вспоможествовании нехилых отцовских пайков, он проскочил согласно возрасту, почти не заметив чудачеств истории, и по окончаниии великой бойни в армии из-за слабости зрения не побывал, о чём совершенно не жалел, а потом и вовсе нигде не служил из-за того же плохого зрения и не ахти какой наследственности.
Пропустим годы обучения в одесском Незнамокаковском училище, куда он поступил довольно легко и где выковывался его характер и особая очень приятная манера общения с людьми, так помогавшая плутоватому Лёпе уцелевать на спутанных жизненных полустанках.
Тут наш рассказ накрывает лёгкое облачко неизвестности, и когда оно рассеивается, мы наконец видим нашего потрясающего героя уже в Нежнотрахове, в Технической Академии, где он, успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему «Механические свойства натяжных лифчиков», вот уже третий год доцентствует на кафедре «Понятийного Программирования и Общей Технической Селекции». Здесь он уважаемый кадр и с увидимым удовольствием предаётся научной работе, сочетая общественно полезное с осторожны блудом со студентками. Одновременно молодой специалист и живёт с молодой женой Бертой, работающей в больнице номер семь штатным гинекологом. В общем он катается как сыр в совдеповском масле, не зная ещё о перепитиях будущего сильнейшего скандала и появившегося на горизонте расставания с семьёй и избранницей.
Тут надо сказать, что любовь приходила и уходила, а кушать противному Лёпе хотелось всегда.
Карьера Дурновского в замшелом вузе была бы необычным делом для представителя той воистину богоизбранной нации, к которой он всецело и осознанно принадлежал, если не учитывать время, в которое он жил. Живи он до Праховой революции, так был и торговал в своём куцем Бердичеве по следам набожного дедушки Ахрама жалким скобяным товаром или широкополыми крашеными соломенными шляпами типи аля-уфри, но революция распорядилась по иному. В революцию его героико-прош… вский народец вдруг, совершенно неожиданно захватил всю власть в Гнилоурии и ещё долго тютюшкал её, баюкал и нежил, не зная доподлинно, что с ней можно делать после полного разворовывания народных активов, пока грузинский крокодил почти не положил этому конец. Крокодил тоже умел воровать, и как рачительный вор не мог дозволить, чтобы воровали другие! Торговать в Бердичеве, когда его соплеменники жадными кучками устремились в столичную элиту, не хотелось. Пришлось в духе времени срочно становиться интелигентом. К тому располагало всё – и приятные манеры, и почти умное, продолговатое лицо с правильными чертами и голубыми глазками, и сладкая, вкрадчивая речь, просто опрокидывавшая своей приятностью женщин, и сутенёристые манеры и шапка совершено белых, как у альбиноса курчавых волос, и непременные профессорские роговые очки – всё было один к одному. Перед нами был как бы передовой, как бы умный, где-то начитаный и донельзя свойский человек – не человек, а кладезь мирской, как тогда это понимали. Всё было в нём к месту! Всё говорило о надёжной карьере средней величины!
Короче, мало находилось людей, которые в присутствии этого человека могли не терять здравый рассудок и не злоупотребляли горячими уверениями, что Леопольд Мойкевич просто прекрасный человек, удивительный человек. Автор тоже вынужден признаться, что долгие года, пока поступки Лёпы не поколебали такую невесть на чём основанную высокую репутацию, он фанатично верил в порядочность Дурновского, и скажи ему кто-либо: «Да ты что, не видишь, что это всего лишь ушлый подонок, приученный уцелевать любыми методами?», автор дал бы такому человеку по роже. Что ж, все мы заблуждаемся. Иногда жестоко. Впрочем, это тот случай, когда нас специально заставляли заблуждаться, ибо и мягкие манеры, и вежливость, и благородный вид в данном случае были хорошо осознанными и тщательно отрепетированными способами уцелевания. И ничем больше. Они были обычной мимикрией!
Когда спустя годы этот отпетый проходимец рассказывал своему внуку сказки о своей непогрешимой службе в технической Академии, внук и не подозревал, какие высокие тайны были пропущены в рассказе престарелого дедушки. Дедушка так очаровал внука своими плутовскими россказнями, что тот был без ума от него и потом, когда его отец стал рассказывать правду, долго не мог поверить в случившееся. Дедушка помимо своего преподавания в вузе, был еще столь неравнодушен к девичьим прелестям, что всячески старался не упустить ни одной юбки, в том числе юбки несовершеннолетние. Он приглашал девиц студенток в подвальное помещение, где стояли многочисленные компьютеры и древний дачный диван, приглашал под видом консультаций или ещё чего подобного, и там сначала угощал конфетками и шоколадками, а потом обольщал и трахал их в своему вящему удовольствию на этом же самом научном диване. Подонок был это настоящий! Подонкам надо бы поучиться у этого сверхподонка! Короче, этот высокий, стройный типок, уже обзаведшийся пышной, абсолютно седой шевелюрой, заставлявшей подозревать, не альбинос ли пред нами, был глубоко неравнодушен в женской красоте и готов был приносить на её алтарь высокие жертвы…
Это был настоящий рыцарь женской красоты и её производной – животного спаривания, к которому столь тянулись его любвеобильные бараньеголовые единородцы. Но, как известно, шила в мешке не утаишь! Это райское существование так бы продолжалось во всей красе, если бы почти одновременно о подвигах этого милого ловеласа не узнали родители двух наполненных новой мудростью, но одновременно лишённых целомудрия студенток. Родителей этих студенток так поразило поведение уважаемого доцента Дурновского, что они бросились в деканат с пеной у рта и даже написали на имя декана бумагу с жалобой и деталями произошедшего. Дело приняло довольно плохой оборот, и баранья шевелюра проходимца на время пообвисла. Как только бумаге дали известный ход, все заметили, что у Дурновского ещё больше побелели не только волосы, но и лицо, а сам он стал суетливым жалким человечком с низким наморщенным лобиком.
Декан Дувинов, хоть и желал только собственного спокойствия, ещё больше пёкся о спокойствии на кафедре.
– Лёпка, сюксин, со ты творищь! – крикнул он, едва войдя на кафедру и завидев мятущуюся баранью чалму Лео Дурновского, – У нас сё з било тихо, всё з было щито-крито, а ты своими амуфными погожденияри бгосаешь тень на нашу камхфендгу, мать твогю, Лёпа, Лёпочка, …ты …, что ты телаещь? Ты в своёпуме! Как я маху самять эту? Как? Это? По блитям пошёл, доцн? Мью старысь не жалеитщь! Арш? От што мне тепирь?
И побагровел.
Дурновский, толь поняв прегрешение свое, толь осознав чем всё это емуть грозит, сморщился, как лимоннная корка, тревожно завращал глазками и тут же пал в ноги престарелому Дувинову, спаси, мол, не отверзай, защити помалу! Бросился, дабы с земли в пароксизме грядущей благодарности отлобызать клетчатые, спасительные брюки шефа.
– Сто же делафь? Сто же делафь? – вопрошал он, поневоле перевирая фирменный выговор шепелявого профессора и обратив свои полу-прекрасные восточные глаза мимо Друвидрова к невидимому небу.
Итак он невольно пародировал потрясающую дикцию декана.
– Лафно-лафно! Не нафа! Не нафа! Что дефать… Что дефать… – сказал смягчившийся декан, славный своими лекциями, в которых произношение было таким, что никому из студиозусов никогда не было понятно ни одного слова, – Эх, Ляпа-Лёпа! Всерда типя, Лёп, дуряка шпашал и тепехь в обису не там!
Друвидров, когда произносил эти слова, словно светился от гордости за свою силу, и Леопольдик понял, что плата за такое величайшее благородство шефа будет нечеловеческая. Может даже потребует отдаться!
Декан был неплохой человек, коммунист, и если бы не частые дефекты речи, делавшей её сплошной шарадой для слушателей, его облик можно было бы назвать идеальным. Полная гармония внутреннего содержания и внешнего облика. Лекции декана славились в институте и вызывали у студентов повышенный интерес, но чисто как что-то очень специфическое, потешное, как некое незабываемое зрелище, а не как метод приобретения знаний. Недавно Автор, лишённый в те времена счастья присутствовать на подобной лекции, всё-таки прочувствовал её, когда по телевизору услышал речь нынешнего генерал-губернатора Нежнотрахова Сида Карачумазова- в ней тоже, как в словоизвержениях Друвидова, ничего нельзя было понять, кроме того, что говорящий очень пыжится выразить свои мысли. Автор вообще в результате своих контактов с выдающимися чиновниками Фиглелэнда сделал вывод в полном отрыве этой группы особей человеческой породы от основного корпуса кроманьонских людей.
– Эй! Лафно, Люпа, иси, сё будет оке! – сказал на прощание выдающийся лектор и декан, – Не перди!
Дурновский отпрянул от него, вдохновенный, как конь Буцефал, и даже заржал от радости. Домой он нёсся почти окрылённый, но там ему погасили пыл очередным скандалом.
На внутреннем, семейном фронте дела у сладострастного Леопольдика Дурновского меж тем тоже шли всё хуже. Жена его, давно подозревавшая шашни подлюки, в слова не верила и смотрела в глаза мужа с недоверием.
К тому времени Дурновский обзавёлся из рядов облюбованного им комсомольского студенчества новой, самой любимой пассией, без которой теперь уже никак не мог обходиться. Пассия, как и все остальные пассии, была совсем юной студенткой Механического факультета Таней Крошкиной-Цыплюк, и поначалу вожжи в руки не брала. Однако Дурновский был женатым, чёрт подери, человеком, уже, что говорить, при детях, и жена его была нрава истерического. Когда милые проказы Дурновского на женском фронте стали через разные каналы известныне только его несчастной обманутой супруге, но и всей публике, начался новый, приключенческий этап его жизни, связанный со слежкой, засадами на местности, быстрыми перемежающимися погонями, прятками в платяных шкафах, бурными словесными перепалками, частой ложью по телефону и в лицо, мутными выяснениями отношений около туалета, скользкими ночными уходами из семьи и такими же странными, труднообъяснимыми утренними возвращениями в её крепкое, но трудовое лоно. Короче, это была мука житейская, а не жизнь! Но ведь этот челове заслужил всё это, не так ли? Теперь, спустя годы, когда охладел пепел тех суровых событий, Автору совершенно ясен смысл повеления пройдохи Дурновского – ничего в том таинственного нет… и не было: просто он, как обыкновенный хитрый, дошлый анарейский проходимец, располагался между двух стульев и придирчиво выбирал наиболее выгодный для себя вариант – бабостул, который выдержит всё его подлючество и на котором ему сидеть будет более всего удобнее. Более выгодный стул! Только и всего! Читатель знает, сколь тяжёл квартирный вопрос в нашей незабвенной Фиглелэнда. И Дурновский тоже знал, ибо и газеты читал и в окно жизнь видел. Незадолго до расставания в супругой, он, после разных мучительных перепитий, какие претерпевали все претендовавшие на квартиру, получил от своей Технической шараги непрестижную хрущовскую квартиру на рабочей окраине города, хотя рассчитывал на центр. Это было сильное продвижение, ибо начиналось у Лёпки в Нежнотрахове всё с вузовского общежития около аэропорта с общей кухней и общими тараканами в длинных коридорах, где всегда пахло чем-то неискоренимо противным. Хотя квартира была тёплой, устраивать Леопольда она не могла – слишком далеко она располагалась от центра цивилизации. Он заслуживал лучшей судьбы, а следовательно, и лучшей жизни! Нужна была другая квартира в центре и желательно с женщиной получше, чем старая жена. Нет, не так! Нужна была женщина обязательно с квартирой в центре.
Как раз в это время Алесь учился в одной школе с дочерью Лёпы Дурновского. В этой же школе учился и сын Лифы, по обычаю этой семейки, тогда пухлый, нескладный мальчик с большим носом, крупными жирными ушами и движениями увальня. Довольно омерзительно он выглядел, на самом деле, это уж без брехни! Вид у него был такой, что одним хотелось его пожалеть и гладить по головке со слезами жалости на глазах, а другим хотелость наблевать ему в рожу. В общем, понятно, что это был за типок!
Потом он вырос, как-то сбросил жирок и потихоньку-полегоньку сложился в Жана, как его называл Дурновский, парня неглупого, себе на уме, очень ушлого в делишках. После окончания гуманитарного института, совпавшего с началом прискорбных событий в государстве, приведших к его скорому распаду, перед юным созданием возникла дилемма, кем быть. И путь определился почти сразу – Жан стал торговать под прикрытием Панславянско-Канадской Компании, «Патентованными Средствами для Холи Лица и Срочного Омоложения Души и Тела» и прочим «сопутствующим делу патентованным медицинским товаром».
Сейчас, спустя годы, хорошо известно, что за продукцией по всей стране торговали пейсатые жаны – и единственно правильное слово, которым её можно охарактеризовать, это слово – «отрава». Но тогда в тумане экономической революции многое было непонятно и неизвестно. Люди бесились от бессилия пред событиями, покупали абы что, занимались абы чем и вообще были порядочно дезориентированы. И их обманывали. Деньги, однако, не пахнут, и мутная среда тех лет давала приличные возможности для таких людей, как Жан заниматься впариванием славянским «дуракам» «патентованых» китайских пилюль и прочей отравленной нечисти, что делал с жаром и размахом необычайным для скромных масштабов Нежнотрахова.
На досуге Жан любил туризм. Вернее экстремальный туризм – в разных частях Нежнотрахова, которому вряд ли грозила слава города-красавца, он любил, ощущая себя горнолазом-романтиком, в полном альпинистском снаряжении часами ползать по стенам церковных руин, которые в то время ещё не были отремонтированы, и по большей вчасти – вообще бесхозны. Ублюдочные развалины в то время торчали в разных местах великого города, как последствия войны или землетрясения. Они часто представляли собой вообще почти бесформенные груды камней и удивительно, что их вообще не снесли. Автор, с какой-то оказией общавшийся тогда в какой-то компании с юным, таким же блудливым, как его альбиносистый дядюшка, полным остапобедеровских прежектов Жаном, спросил его, не кажется ли Жану весьма всё-таки предосудительным лазить с верёвкой по церковным стенам, не так давно ещё намоленным верующими, да ещё и корябать эти стены шипами грязных горных ботинок? Как-никак это религиозные постройки?! Нехорошо ведь! На что находчивый Жан тут же не задумываясь ответил, что «не находит такое лазанье хоть в какой-то мере предосудительным, ибо церкви эти не работают уже сто лет, по назначению давным-давно не используются, а следовательно культовыми сооружениями эти руины не являются».
О, как! Говорил он это гордо, уверенно, не так как говорит внутренне сомневающийся интеллигентный человек. Автор проявил тогда настойчивость и спросил, а не хочет ли Жан, как настоящий романтик, излазив всё мыслимое здесь, поехать потом в Исруль и полазить в альпинистких бутсах с верёвкой, к примеру, по Стене Плача? На какую-нибудь синагогу залезть? Или меня послать для того же? Условия там для этого вполне подходящие! Обломки кирпичей, дырки. Верёвка есть, за бутсами дело не станет! Полазим? После чего Жан сразу же выпучил на меня глаза, почему-то надулся и резко прекратил разговор.
К неоспоримым достоинствам этого неописуемого семейства можно отнести крайнюю, поистине поэтическую тягу к траханью.
В общем, с какой стороны ни посмотри, та ешё это была семейка!
Не могу сказать, что я общался с Леопольдиком много, могу сказать только, что некоторые сведения о жизни этого изумительного человека получил от посторонних, но очень уважаемых людей.