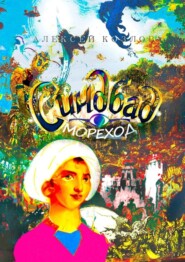По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Городъ Нежнотраховъ, Большая Дворянская, Ferflucht Platz
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вам всё разжуй! Я… без рояля! Какие уж тут непонятки? Природе не нужна героическая смерть своих сынов и дочерей, природа призывает всех только к продолжению жизни, к славе и бессмертию. Видимо, в этом и есть смысл всего сущего. А государство призывает к другому… К самопожертвованию, к смерти… К маразму и троцкизму, под пологом коего легко очищать кошельки.
– О как! Грустно! Всё-то вы знаете, везде шкрябали! А вот луче скажите мне, профессор, луче скажите мне, профессор, скажите мне луче, почему женщины так мало и так необильно пукают?
– О-о-о-о! О, мой любознательный друг-студиозус! О, мой Волька и Лёлька в одном лице! О мой ласковый Чук и единовременно донельзя добрый Гек! Сиамские блязняшки моего разбитого сердца! О, мой усёный Соломон и доблая, хитлая Фетинда! Я не буду течь всякой дрянью по древу, сея рознь в паке туевом! Не буду будить гуслей в Риме лазлатном, Пащити Ромулремовой, аки надыть! Мироволюсь я! Гонобоблю! Терплю! Виды отмеваю! Тохочу! Хо! Какие, однако, вопросы! Да-с! Что ж, мой маленький друг… Ответ на этот вопрос уникально элементарен! Уникально! Вау! У них маленький желудок! Такой желудок в месяц едва-едва может переварить одну горошину!
– О-о-о! А мозг? А мозг? Отвечать быстро, не задумываясь ни на секунду, поторапливаясь!
– Ха! Тоже маленький!
– А жопа?
– Жопа?
– Да, жопа?
– Большая!
– Большая?
– Да-с, большая, прошу заметить! Как правило!
– Вы видели?
– Да, прошлый раз в одна тысяча девятьсот…
– Не надо таких интимных деталей! Меня волнует не факт, а философия факта! Квинтессенция! Жом!
– Что-что?
– Да так! Я погорячился!
– Как хотите! Как хотите!
– Профессор! А скажите мне, скажите мне, скажите, так что же вы мне все мозги засрали?
– Я??? Какой вы циник, господин Япошкин! Вы мне покойного Панноньева напоминаете! Какой вы, однако, отпетый циник! Конечно, это поддерживает во мне огонёк живой мысли и истинного вдохновения! У человека должно быть то, что он вспоминиет с нежностью души своей, и в сущности разве важно, что это! После Пушкина это была некая субстанция…
– О как!
– У меня опять ухо заложило! Должно быть, мощная ушная пробка! Ударьте меня в ухо, она может вылететь! Ударьте в левое ухо, чтобы вылетела в правое! Прошу вас! Не бойтесь! Да не бойтесь же! В полнолуние у меня в ушах всегда образуются мощные ушные пробки! И не только в ушах! Ничего не слышу, кроме вас! Да ударьте же вы! Вот, я подставил! Бейте, не бойтесь! Да не бойтесь же! Ой! Ой! Ой! Вы что, дурак? Гирей от часов ударил! Ну и ручиша! Ты, что, дурак? А у меня миозит! Умираю! Ну не так же! Я вас просил нанести излечивающий удар, а вы дали мне в ухо, как бандит! то не удар был, это хук, козлина стоеросовая! Сильно как! Так нельзя! В ухе как будто колокол звучит, не умолкая! Не понимаете, что ли?
– Прощайте! Я свершил то, что вы просили! Вы не можете даже дослушать друга! Вы влюблены в себя! Я ухожу непонятым! Залейте в уши касторки! Наверно, Вы очень одиноки и непристроены? Вас, вероятно, можно пожалеть! Но как?
– Ну, давай! Дуй, дрозофила! Катись колбаской! Ответ был не по существу! Иду к врачу! К гинекологу! Ту-туууууу!
– Ну что тут сказать! Сам ты таков! Иван Кривда!
Что мы видим далее? Что? А то! Вот и вечный студент Ипполит Ферамонов, которого мы, как инженеры человеческих душ, хотели бы познать лучше, идёт в университет, стуча грубыми деревянными ботинками о вывалившиеся камни и влача по земле приспущенные реперские брюки на лямках. Университет вроде бы ждёт его, однако их любовь не взаимна. Вечному студенту Ферамонову осталось учиться в этом заведении ровно три месяца, после чего после некрасивой истории в Лесном Общежитии он будет из него изгнан навсегда и исчезнет из Нежнотрахова, аки липов цвет. Тогда же и мы навсегда потеряем его из виду.
Глава 29
В течение которой мы медленно объезжаем большую лужу, в которой живут удивительные существа, а также предаёмся лёгкой меланхолии по поводу вынужденной поездки в последнем вагоне электрички.
Долгое дело – жизнь. Иногда и не уследишь за её черепашьим ходом и совершенно неприметными изменениями, а она обгонит, обмишулит и оставит человека посреди невесть чего без ничего, в пустыне какой-нибудь, в одном носке, с букварём и, может так случиться, с пустой птичьей клеткой в руке. Только не уследи, споткнись один раз – и всё пошло всё через пень-колоду в тартары небесные. Умер кто-то, был в горе, обокрали, как это у нас водится, огорчился, потом запил, пьяного обманули бандиты, как их, чёрные риэлторы, и подло отняв квартиру, выгнали человека на улицу… Вот итог – нет человека, и никто не спросит, чья это тень круглый год до морозов мозолит скамейку в вытоптанном слонами сквере? А потом и тень исчезает незаметно, как будто её и не было…
Вдоль Концовского сквера, через серые неприкаянные дворы, а затем длинной Среднеморской улицы, застроенной уже изрядно закопчёными и потрёпанными жизнью хрущовскими полу-домами, перемежающимися кое-где с древними, тоже почерневшими избушками, проезжает античная пожарная дрезина с болтающимся сбоку слоновым хоботом. Она медленно объезжает деревянную будку с какой-то покосившейся вывеской, кажется – стеклорезку, проезжает шальную стройку с огромным котлованом произвольной формы, с которой на проезжую часть нанесено столько мусора и грязи, сколько не было даже при Великом Потопе. Котлован наполовину заполнен мутной водой, отражающей невесть что. В нём плавают щепки и тряпки. Кажется, вот там крутится в потоке полузатопленная пластмассовая кукла. С откоса с томительным всхлипом в воду иногда сползают жирные пласты народного чернозёма. Вчера сюда забрела свинья. Она целый день с видимым удовольствием плескалась в пёстрой колониальной жиже, а потом, натешившись, ушла в маленькие домики размышлять об общем смысле жизни и конечности бытия. Римский котлован пребывает здесь уже два года и удивительно, что в нём ещё не обитают вечные утки – лучшие жительницы нашего цветущего края. Земля здесь хорошая, жирная, чёрная, как смола. Если взять её в руку, то потом руку невозможно отмыть неделями. Люди, как утверждают некоторые – тоже. В годы войны, по укоренившейся литературной традиции тевтоны вывозили отсюда нашу чёрную землю вагонами в Германию. Впрочем, может, вывозили, а может – и не вывозили, кто его знает? Это разные рассказчики после войны рассказывали. Тут такого могут наговорить, что за голову схватишься! Верить тут никому нельзя! Наврут с три коробки!
Когда дрезина, обогнув котлован, вьезжает ещё в одну огромную лужу, больше похожую на колхозный утиный пруд, от разлетающихся брызг в разные стороны шарахаются разнополые прохожие граждане, среди которых мы видим двух людей среднего возраста и разного телосложения – одного худощавого в синей французской куртке, а другого плотного – в серой английской. Несмотря на окружающую грязь и тряпичную куклу на покосившемя заборе, куртки у них довольно чистые, хоть и помятые. Но зато запачканы штаны и уже заляпаны коричневые ботинки. Судя по их брезгливому виду и оживлённой мимике, они очень недовольны своей жизнью в городе Гомнодавове, где сейчас находятся, и недовольство это имеет свою очень давнюю историю и глубокие корни. Уже начинает вечереть, и сладкая тьма постепенно наполняет неосвещённую фонарями улицу. Контуры размыты, и кажется, что и слова, звучащие сейчас, тоже несколько размыты и неопределённы.
Такие разговоры не редкость в Нежнотрахове, в первую очередь потому, что жизнь, как говорится, диктует свои законы, а законы нынешней жизни – совершенно волчьи. Надо как-то уцелевать, выдумывать «какую-то мульку», как здесь говорят всякие пройдохи, выкручиваться. Работы кругом никакой, а какая есть – не в жилу! Просто жопа, как дела обстоят кругом! Просто жопа! Хотя кругом много строек народного капитализма, и надежда на них в народе пока ещё теплиться.
Алесь косится на недалёкое соседнее здание и видит:
«Грязный пройдоха, ты жив ещё?» – написано на двери жирыми жёлтыми буквами.
«Здесь были люди! – думает Алесь, – Их обидели, и они будут мстить!»
Алесь и Андрей – отнюдь не пройдохи, совсем наоборот, они честные люди из хороших семей. Таким выкручиваться в Фиглелэнда всегда было …ёво, а теперь ещё …вее. И они это знают. Они происходят из того неясного, сломанного поколения, которое не дало Нежнотрахову ни великих умов, ни больших талантов, а прошло по жизни совершенно незаметно и исчезло бессловестно в изменчивой мировой истории.
Итак, приготовьтесь, мы присутствуем при довольно долгом разговоре этих двух уже немолодых людей, одного худого по имени-фамилии Алесь Хидляр и другого плотного – Андрея Геббе.
Куда они идут, неведомо нам.
Они уже прошли город, миновали остановку транспорта, на которой в картонной коробке вот уже третий год живёт старая женщина со спутанными волосами. Теперь на лавке у неё целое хозяйство, мешки с тряпьём, еда в мешочке, картонный ящик из-под телевизора. Она уже лишена аккуратности, всегда отличающих женщину, не до того ей. Именно мимо неё часа два назад в белых майках вразнобой прошли боевики «Единой Фиглелэнда», новые защитники государевы. Говорят, по статистике бездомные люди в Фиглелэнда живут не более четырёх лет. Сколько их теперь по всей стране, Бог знает! По улице Мира, единственной улице города, пока что похожей на настоящую улицу, Алесь и Андрей идут на городской вокзал. Вокзал завершает довольно большую круглую площадь с бронзовой фигурой какого-то военоначальника. Если смотреть на военачальника чуть сзади, то он похож одновременно на поэта Маяковского и императора Вителлия. Слева от вокзала всегда кучкуются синие уродливые троллейбусы и маленькие опасные для езды микроавтобусы пресекают друг другу пути.
«Сколько раз мы уезжали с этого вокзала! Я и мои родите, друзья мои. Боже мой, как много времени минуло! Боже мой!» – думает Алесь, – И нет этого ничего уже, даже аромата того времени нет! Страна моя стала другой, я стал другим. Гниль одна и одни проходимцы кругом!
«Надо купить по пути домой баночку пивка! Хе-йя! „Балтимор“ – хорошее пиво! Доброе! – в это же время думает Андрей, – Ещё две рыбки от рыбалки остались! Краснопёрки! Как они клевали у Белой Горы этим летом! Как хорошо тянуть краснопёрку величиной в ладонь меж чутких водорослей, осознавая её упорное сопротивление поимке, как весело выхватить её у самого берега одним рывком из воды и мокрыми ладонями накрыть трепыхающуюся в густой траве! А потом вынуть из кровавой губы крючок и.., пожалуйте в судок, милостивая сударыня рыбка!»
Вокзал, перестроенный недавно, ещё сохраняет довольно свежий вид, но уже потиханьку покрывается ядовитой гнилоурской пылью. На его крыше замерли в разных позах крашенные солдаты и шахтёры, ткачихи и хлеборобы, а в самом центре какой-то человек с рукой у кепки как прежде вглядывается в даль светлую, караулит врага. В небе клубятся особенные замысловатые тучи, иссиня чёрные, тяжёлые, напластованные, пророча ливень неведомого времени года.
Войдя под высокие своды, Хидляр и Геббе проходят мимо двух мордатых молодых милиционеров, лениво несущих дежурство в загадочных импровизированных униформах, более напоминающих брезентовые мешки. Они пройдут мимо толстяков, более похожих на дачников, чем формы блюстителей порядка, потом минуют полупустые залы ожидания, в коих когда-то отстаивались важные народные депутаты и в углу стояли большие, покрытые благородной патиной бронзовые скульптуры – великие аргументы великой эпохи. Чекист с рукой у козырька и солдат, ласкающий девочку. А теперь в зале толико висят оранжевые рекламы «Кока-Колы».
– О как! Грустно! Всё-то вы знаете, везде шкрябали! А вот луче скажите мне, профессор, луче скажите мне, профессор, скажите мне луче, почему женщины так мало и так необильно пукают?
– О-о-о-о! О, мой любознательный друг-студиозус! О, мой Волька и Лёлька в одном лице! О мой ласковый Чук и единовременно донельзя добрый Гек! Сиамские блязняшки моего разбитого сердца! О, мой усёный Соломон и доблая, хитлая Фетинда! Я не буду течь всякой дрянью по древу, сея рознь в паке туевом! Не буду будить гуслей в Риме лазлатном, Пащити Ромулремовой, аки надыть! Мироволюсь я! Гонобоблю! Терплю! Виды отмеваю! Тохочу! Хо! Какие, однако, вопросы! Да-с! Что ж, мой маленький друг… Ответ на этот вопрос уникально элементарен! Уникально! Вау! У них маленький желудок! Такой желудок в месяц едва-едва может переварить одну горошину!
– О-о-о! А мозг? А мозг? Отвечать быстро, не задумываясь ни на секунду, поторапливаясь!
– Ха! Тоже маленький!
– А жопа?
– Жопа?
– Да, жопа?
– Большая!
– Большая?
– Да-с, большая, прошу заметить! Как правило!
– Вы видели?
– Да, прошлый раз в одна тысяча девятьсот…
– Не надо таких интимных деталей! Меня волнует не факт, а философия факта! Квинтессенция! Жом!
– Что-что?
– Да так! Я погорячился!
– Как хотите! Как хотите!
– Профессор! А скажите мне, скажите мне, скажите, так что же вы мне все мозги засрали?
– Я??? Какой вы циник, господин Япошкин! Вы мне покойного Панноньева напоминаете! Какой вы, однако, отпетый циник! Конечно, это поддерживает во мне огонёк живой мысли и истинного вдохновения! У человека должно быть то, что он вспоминиет с нежностью души своей, и в сущности разве важно, что это! После Пушкина это была некая субстанция…
– О как!
– У меня опять ухо заложило! Должно быть, мощная ушная пробка! Ударьте меня в ухо, она может вылететь! Ударьте в левое ухо, чтобы вылетела в правое! Прошу вас! Не бойтесь! Да не бойтесь же! В полнолуние у меня в ушах всегда образуются мощные ушные пробки! И не только в ушах! Ничего не слышу, кроме вас! Да ударьте же вы! Вот, я подставил! Бейте, не бойтесь! Да не бойтесь же! Ой! Ой! Ой! Вы что, дурак? Гирей от часов ударил! Ну и ручиша! Ты, что, дурак? А у меня миозит! Умираю! Ну не так же! Я вас просил нанести излечивающий удар, а вы дали мне в ухо, как бандит! то не удар был, это хук, козлина стоеросовая! Сильно как! Так нельзя! В ухе как будто колокол звучит, не умолкая! Не понимаете, что ли?
– Прощайте! Я свершил то, что вы просили! Вы не можете даже дослушать друга! Вы влюблены в себя! Я ухожу непонятым! Залейте в уши касторки! Наверно, Вы очень одиноки и непристроены? Вас, вероятно, можно пожалеть! Но как?
– Ну, давай! Дуй, дрозофила! Катись колбаской! Ответ был не по существу! Иду к врачу! К гинекологу! Ту-туууууу!
– Ну что тут сказать! Сам ты таков! Иван Кривда!
Что мы видим далее? Что? А то! Вот и вечный студент Ипполит Ферамонов, которого мы, как инженеры человеческих душ, хотели бы познать лучше, идёт в университет, стуча грубыми деревянными ботинками о вывалившиеся камни и влача по земле приспущенные реперские брюки на лямках. Университет вроде бы ждёт его, однако их любовь не взаимна. Вечному студенту Ферамонову осталось учиться в этом заведении ровно три месяца, после чего после некрасивой истории в Лесном Общежитии он будет из него изгнан навсегда и исчезнет из Нежнотрахова, аки липов цвет. Тогда же и мы навсегда потеряем его из виду.
Глава 29
В течение которой мы медленно объезжаем большую лужу, в которой живут удивительные существа, а также предаёмся лёгкой меланхолии по поводу вынужденной поездки в последнем вагоне электрички.
Долгое дело – жизнь. Иногда и не уследишь за её черепашьим ходом и совершенно неприметными изменениями, а она обгонит, обмишулит и оставит человека посреди невесть чего без ничего, в пустыне какой-нибудь, в одном носке, с букварём и, может так случиться, с пустой птичьей клеткой в руке. Только не уследи, споткнись один раз – и всё пошло всё через пень-колоду в тартары небесные. Умер кто-то, был в горе, обокрали, как это у нас водится, огорчился, потом запил, пьяного обманули бандиты, как их, чёрные риэлторы, и подло отняв квартиру, выгнали человека на улицу… Вот итог – нет человека, и никто не спросит, чья это тень круглый год до морозов мозолит скамейку в вытоптанном слонами сквере? А потом и тень исчезает незаметно, как будто её и не было…
Вдоль Концовского сквера, через серые неприкаянные дворы, а затем длинной Среднеморской улицы, застроенной уже изрядно закопчёными и потрёпанными жизнью хрущовскими полу-домами, перемежающимися кое-где с древними, тоже почерневшими избушками, проезжает античная пожарная дрезина с болтающимся сбоку слоновым хоботом. Она медленно объезжает деревянную будку с какой-то покосившейся вывеской, кажется – стеклорезку, проезжает шальную стройку с огромным котлованом произвольной формы, с которой на проезжую часть нанесено столько мусора и грязи, сколько не было даже при Великом Потопе. Котлован наполовину заполнен мутной водой, отражающей невесть что. В нём плавают щепки и тряпки. Кажется, вот там крутится в потоке полузатопленная пластмассовая кукла. С откоса с томительным всхлипом в воду иногда сползают жирные пласты народного чернозёма. Вчера сюда забрела свинья. Она целый день с видимым удовольствием плескалась в пёстрой колониальной жиже, а потом, натешившись, ушла в маленькие домики размышлять об общем смысле жизни и конечности бытия. Римский котлован пребывает здесь уже два года и удивительно, что в нём ещё не обитают вечные утки – лучшие жительницы нашего цветущего края. Земля здесь хорошая, жирная, чёрная, как смола. Если взять её в руку, то потом руку невозможно отмыть неделями. Люди, как утверждают некоторые – тоже. В годы войны, по укоренившейся литературной традиции тевтоны вывозили отсюда нашу чёрную землю вагонами в Германию. Впрочем, может, вывозили, а может – и не вывозили, кто его знает? Это разные рассказчики после войны рассказывали. Тут такого могут наговорить, что за голову схватишься! Верить тут никому нельзя! Наврут с три коробки!
Когда дрезина, обогнув котлован, вьезжает ещё в одну огромную лужу, больше похожую на колхозный утиный пруд, от разлетающихся брызг в разные стороны шарахаются разнополые прохожие граждане, среди которых мы видим двух людей среднего возраста и разного телосложения – одного худощавого в синей французской куртке, а другого плотного – в серой английской. Несмотря на окружающую грязь и тряпичную куклу на покосившемя заборе, куртки у них довольно чистые, хоть и помятые. Но зато запачканы штаны и уже заляпаны коричневые ботинки. Судя по их брезгливому виду и оживлённой мимике, они очень недовольны своей жизнью в городе Гомнодавове, где сейчас находятся, и недовольство это имеет свою очень давнюю историю и глубокие корни. Уже начинает вечереть, и сладкая тьма постепенно наполняет неосвещённую фонарями улицу. Контуры размыты, и кажется, что и слова, звучащие сейчас, тоже несколько размыты и неопределённы.
Такие разговоры не редкость в Нежнотрахове, в первую очередь потому, что жизнь, как говорится, диктует свои законы, а законы нынешней жизни – совершенно волчьи. Надо как-то уцелевать, выдумывать «какую-то мульку», как здесь говорят всякие пройдохи, выкручиваться. Работы кругом никакой, а какая есть – не в жилу! Просто жопа, как дела обстоят кругом! Просто жопа! Хотя кругом много строек народного капитализма, и надежда на них в народе пока ещё теплиться.
Алесь косится на недалёкое соседнее здание и видит:
«Грязный пройдоха, ты жив ещё?» – написано на двери жирыми жёлтыми буквами.
«Здесь были люди! – думает Алесь, – Их обидели, и они будут мстить!»
Алесь и Андрей – отнюдь не пройдохи, совсем наоборот, они честные люди из хороших семей. Таким выкручиваться в Фиглелэнда всегда было …ёво, а теперь ещё …вее. И они это знают. Они происходят из того неясного, сломанного поколения, которое не дало Нежнотрахову ни великих умов, ни больших талантов, а прошло по жизни совершенно незаметно и исчезло бессловестно в изменчивой мировой истории.
Итак, приготовьтесь, мы присутствуем при довольно долгом разговоре этих двух уже немолодых людей, одного худого по имени-фамилии Алесь Хидляр и другого плотного – Андрея Геббе.
Куда они идут, неведомо нам.
Они уже прошли город, миновали остановку транспорта, на которой в картонной коробке вот уже третий год живёт старая женщина со спутанными волосами. Теперь на лавке у неё целое хозяйство, мешки с тряпьём, еда в мешочке, картонный ящик из-под телевизора. Она уже лишена аккуратности, всегда отличающих женщину, не до того ей. Именно мимо неё часа два назад в белых майках вразнобой прошли боевики «Единой Фиглелэнда», новые защитники государевы. Говорят, по статистике бездомные люди в Фиглелэнда живут не более четырёх лет. Сколько их теперь по всей стране, Бог знает! По улице Мира, единственной улице города, пока что похожей на настоящую улицу, Алесь и Андрей идут на городской вокзал. Вокзал завершает довольно большую круглую площадь с бронзовой фигурой какого-то военоначальника. Если смотреть на военачальника чуть сзади, то он похож одновременно на поэта Маяковского и императора Вителлия. Слева от вокзала всегда кучкуются синие уродливые троллейбусы и маленькие опасные для езды микроавтобусы пресекают друг другу пути.
«Сколько раз мы уезжали с этого вокзала! Я и мои родите, друзья мои. Боже мой, как много времени минуло! Боже мой!» – думает Алесь, – И нет этого ничего уже, даже аромата того времени нет! Страна моя стала другой, я стал другим. Гниль одна и одни проходимцы кругом!
«Надо купить по пути домой баночку пивка! Хе-йя! „Балтимор“ – хорошее пиво! Доброе! – в это же время думает Андрей, – Ещё две рыбки от рыбалки остались! Краснопёрки! Как они клевали у Белой Горы этим летом! Как хорошо тянуть краснопёрку величиной в ладонь меж чутких водорослей, осознавая её упорное сопротивление поимке, как весело выхватить её у самого берега одним рывком из воды и мокрыми ладонями накрыть трепыхающуюся в густой траве! А потом вынуть из кровавой губы крючок и.., пожалуйте в судок, милостивая сударыня рыбка!»
Вокзал, перестроенный недавно, ещё сохраняет довольно свежий вид, но уже потиханьку покрывается ядовитой гнилоурской пылью. На его крыше замерли в разных позах крашенные солдаты и шахтёры, ткачихи и хлеборобы, а в самом центре какой-то человек с рукой у кепки как прежде вглядывается в даль светлую, караулит врага. В небе клубятся особенные замысловатые тучи, иссиня чёрные, тяжёлые, напластованные, пророча ливень неведомого времени года.
Войдя под высокие своды, Хидляр и Геббе проходят мимо двух мордатых молодых милиционеров, лениво несущих дежурство в загадочных импровизированных униформах, более напоминающих брезентовые мешки. Они пройдут мимо толстяков, более похожих на дачников, чем формы блюстителей порядка, потом минуют полупустые залы ожидания, в коих когда-то отстаивались важные народные депутаты и в углу стояли большие, покрытые благородной патиной бронзовые скульптуры – великие аргументы великой эпохи. Чекист с рукой у козырька и солдат, ласкающий девочку. А теперь в зале толико висят оранжевые рекламы «Кока-Колы».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: