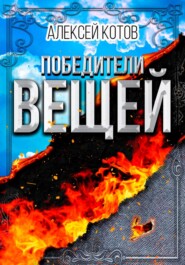По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки церковного сторожа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наташка в чем-то права… В определенной ситуации литературные привидения бесполезны как цветные бабочки над солнечным, ромашковым полем. Это все красиво, конечно, но реальная жизнь куда круче и жестче. Например, если бы не Наташка, часть пути в туалет мне пришлось бы проделать ползком. Чертова физиология очень ловко расправляется с любыми привидениями. Философствуешь ты или болеешь, рано или поздно физиология возьмет тебя за шкирку и вытряхнет из пыльного мешка с призраками.
Не открывая глаз, я нахожу руку жены. Она мягкая и прохладная. Наверное, это тоже физиология – ощущать в своей горячей руке прохладную женскую руку.
– Хочешь, про котов расскажу? – спрашиваю я. – У нас как-то раз зимой жили при церкви целых три штуки.
– Что значит жили? А где эти коты теперь?
– Люди разобрали. Весна пришла и их разобрали…
– Разбирают машины и товары в магазине, – говорит жена. – Кому нужны ваши драные коты?
– Вот представь, оказались нужны, – убежденно говорю я и даже принимаюсь кивать головой. – Черный кот был похож на Профессора с седыми усами, а кошки – одна Сиамская, а другая Трехцветная – на его верных жен.
– Твой Профессор что, не православный кот-многоженец был?
– Котам это можно…
Я начинаю погружаться в темноту. Спать хочется…
– А кошки? – спрашивает жена.
– Какие кошки?
– Ну, не, которых ты «женами» Профессора назвал. Их тоже взяли?
– Конечно.
– Врешь, наверное…
– Да что б я сдох.
– Согласна, но только не сейчас. Лет через сто – можно, – Наташка касается рукой моей груди. – Ты как?..
– Пока живой.
Темнота становится ближе и обволакивает меня со всех сторон.
– Ты поспи, я с тобой рядом посижу, – говорит Наташка. – Пить хочешь?
Ее голос уходит дальше и дальше… Его можно вернуть, сказав «да, хочу», но я уже выпил целых две кружки воды, и теперь они выходят из меня испариной.
– Нет…
Я не слышу ответа Наташки. Темнота побеждает меня. Я чувствую только руку жены, и только она связывает меня с исчезнувшим куда-то миром. А потом тает и это ощущение.
В голове всплывают слова Ветхозаветного пророка: «Жив Бог, перед Которым я стою!..» Я повторяю их снова и снова: «Жив Бог!..» А если жив Бог, значит, жив и я.
Тьма становится горячей и злой. Она похожа на песчаный ветер из пустыни, и я иду ему навстречу. Ветер останавливает меня и едва не опрокидывает назад. Я захлебываюсь им и падаю на колени. Колени врезаются в мягкий, горячий песок и я слышу чей-то смех за спиной.
Что, опять испугался?
Кто меня спросил?.. Нет-нет, я не испугался! Я пытаюсь встать, но ветер слишком силен, и, главное, мне не на что опереться… Вспоминаю: лопата! Со мной была лопата, потому что я убирал снег. Где она? Я вслепую шарю руками по горячему песку.
Шепчу снова и снова: «Жив Бог, перед Которым я стою!»
Я снова слышу смех: так что тебе нужно, человек, лопата или Бог? Ты не стоишь, нет!.. Ты ползаешь по песку на карачках. Ты хочешь и еще можешь встать, но зачем? Что бы снова упасть? Неужели ты не понимаешь, что твои попытки иллюзорны, как и все остальное, что сейчас окружает тебя? Или, может быть, ты снег с горячим песком перепутал?
Я понимаю… Я понимаю, что мне снится сон, но этот сон настолько реален, что я по-настоящему ненавижу окружающую меня пустоту и жар. Я не знаю, куда и зачем я иду, и я понимаю только одно – Бог жив.
Я снова слышу хохот и вдруг ясно осознаю, насколько огромна пустота вокруг меня. А кто я сам? Букашка… Ничтожество… Тля!
Сколько миллиардов людей жило до тебя и где они сейчас? А сколько еще будут жить потом? Понаехали тут!.. Устроили блошиный цирк на песчинке по имени Земля в бесконечной Вселенной. И Бога от страха придумали. Мол, я, – букашка! – бессмертна. Пойди на любое кладбище, умник, и полюбуйся. Вы – толпа. И вы всегда были только толпой. Ты думаешь, что ты умеешь думать, человек?.. Нет, ты умеешь только видеть, обонять, слышать, осязать и чувствовать вкус. Все это – животная органолептика, метод определения качества продукции. Волк оценивающе смотрит на худющего зайца и оценивает, стоит ли тратить силы на погоню за ним. Человек обнюхивает и ощупывает новый холодильник и пытается сообразить, стоит ли он таких денег. И ты – то есть вы все – лепите из органолептики слова. Вы всегда что-то оцениваете, что бы это «что-то» купить. Вы любите скидки и рассуждения на тему соотношения цены и качества: вот эта книга слишком толстая и на нее неохота тратить время, а вот эта слишком тонкая и хитрюга автор в нее чего-то явно не доложил. Тебе духовность не понравилась?.. Так ведь взяли и вылепили словцо! Да, не для тебя, потому что ты и в самом деле не сможешь написать рассказ с таким словом, но его-то вылепили для толпы. Чтобы одни сторона толпы обладала духовностью, а другая, противостоящая ей – нет. Чтобы была элита и чтобы был – нет, не демос, – а охлос. И чтобы «собственные устремления» одной стороны толпы вдруг стали хороши, а другой – плохи. А потом кто-то спросит, что же мы стоим, господа?!.. Если вы слишком слабы, чтобы уничтожать врага физически, уничтожайте его морально. Это даже более гуманно, потому, во-первых, уничтоженный останется жив, и, во-вторых, более изощренно и умно. На хрена, спрашивается, уничтоженному морально жизнь после ее моральной переоценки до нуля?..
Меня укрывает одеяло то ли из песка, то ли из снега. Постепенно оно становится тяжелым и давит, как плита. Можно нырнуть глубже – и все… Нет, нырнуть не в песок или снег, а толпу. Незримая, она там – ниже. Это темная, безликая масса, и в ней нет ни одного человеческого «я».
Что меня держит?.. Радость. Я не знаю, откуда она приходит, но она неимоверна. В ней столько силы и света, что я знаю, что я не умру. А еще я знаю, что эта радость не мое «собственное стремление», а другое, противоположенное ему. Да, это стремление, но не мое. И перед ним бессильна органолептика. Я не могу видеть эту радость, обонять, слышать, осязать и чувствовать ее вкус. Но она есть и ничто без нее не имеет смысла.
«Жив Бог, перед которым я стою!..»
Мне больше ничего не нужно. Можно убить меня, но нельзя убить эту невообразимую радость. Прежде чем встать, я, еще стоя на коленях, я снова и снова повторяю «Жив Бог!.. Жив Бог перед Которым я стою!» Я верю в эту истину так же, как верю в свое дыхание и стук сердца. Но не они – не физиология и физическое тело – рождает мою радость, а то, что несоизмеримо выше всего.
Разве может существовать – быть! – сам Бог без такой неимоверной радости?..
Меня будит Наташка:
– Тридцать восемь и пять, – ее теплый шепот приятно щекочет мне ухо. – Температура падает.
Я что-то ворчу и, чуть толкаю Наташку локтем. Хочу извиниться и не могу… Я еще там – во сне.
– Спи, спи!.. – шепчет Наташка.
Она ложится за моей спиной, но тут же привстает на локте и смеется мне в ухо:
– Я знаю, что ты все слышишь… Так слушай. Я давно хотела тебе сказать, что завидую тебе. Ну, как же вам везет, писателишкам несчастным! Честно слово, вы как мелкие карточные шулеры, которых уже давно пора выбросить из-за стола с почтеннейшей публикой, но почему-то никто не спешит сделать это. Вы сидите в своих потертых пиджаках среди раззолоченных королей и надутых лордов, бросаете на игровой стол гроши, но кто-то – кто, Алеша?! – вдруг превращает ваши деньги в золото. Вы не очень-то умны, но никто не может вас переспорить, вы не очень-то нравственны, но кто-то легко прощает ваши мелкие, полудетские грешки, вы даже не очень талантливы, но кто-то любит вас несмотря и на это… Кто, Алеша?!
Температура действительно падает, я чувствую, как уходит жар, хотя я никак не могу выйти из вязкого, как болото, сна.
Да, кто-то любит, Наташенька… Кто-то обязательно любит.
Наташка снова смеется:
– Что ты там мычишь?
Ничего… У меня просто нет слов. Пока нет…
04. Мысли и боль
Я хорошо знаю, насколько – до отвращения! – может быть бессильно слово и, наверное, поэтому и привязался к чисто философскому понятию духовность. Улыбнусь: нашел себе игрушку!.. Кстати, именно понимание этой слабости помогло мне с технической стороны (если она есть, эта сторона) в литературе. Я просто понял, что главная мысль рассказа должна умереть и родиться заново. Нет, это не игра в отвлеченные смыслы, потому что смерть и воскресение слова, проходящие через сердце и разум автора, не могут не стать настоящими. Ведь если слово не духовно, оно мертво изначально.