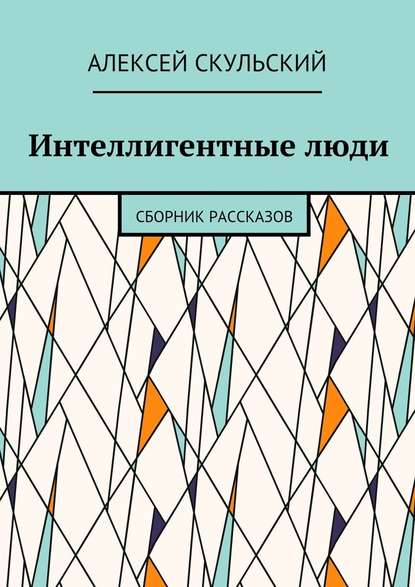По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Интеллигентные люди. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ладно, – сказала она, – а платить-то у тебя есть чем? – Денег у нас, к сожалению, нет. Но мы готовы расплатиться стиральными машинами нашего завода, – он посмотрел на Валю, на лице которой уже был написан отказ. – И куда я их дену, твои говенные стиральные машины? Кому они нужны? Их же не продашь и не поменяешь ни на что! Нет, парень. Давай, ищи деньги, и будет тебе экскаватор хоть сегодня. А про машинки свои забудь, – она всем видом показала, что разговор окончен. – Поймите, это дело очень важное, можно сказать, государственное. Если мы не закончим строительство в этом году, сотни людей не получат квартиры, – он говорил очень страстно и убедительно.
Интонации и выражения его лица напоминали ей ее собственные приемы, когда она уговаривала кого-нибудь дать товар или деньги. «Тоже мог бы быть вором на доверии, умеет убедить», – подумала она и решила для себя, что экскаватор даст. Хрен с ним.
– Ладно, тащи свои стиральные машины, готовь договор. Они у тебя почем?
Дальше быстро обсудили цену по бартеру. Валя в уме уже сосчитала, что практически ничего не заработает, даже если сумеет пристроить кому-нибудь эти машинки, но от своего слова не отступила.
Сделка состоялась. Еще месяц, примерно, на складе, в холодной прихожей офиса, везде, куда ни кинь взгляд, можно было увидеть большие коробки со стиральными машинами. Продавались и менялись они плохо, а последние десять штук были просто подарены разным людям, что бы помещение освободить.
За местными политическими событиями Валя не особенно следила и знала только первых лиц, которые мелькали на телеэкранах. Когда через несколько лет в программе «Время» она случайно увидела знакомое лицо того замерзшего парня, которому отдала экскаватор в обмен на стиральные машины, парень уже работал в Правительстве России.
– Да, в удивительное время живем. Хрен знает, кто может стать главой правительства и даже президентом в этой убогой стране, – сказала она своим помощницам, напомнив им эпизод с бартером пятилетней давности. А в целом, это было ей не очень интересно, и скоро она об этом забыла, но, как оказалось, не на долго.
В августе 1998 года, когда произошел дефолт, а у нее был непогашенный кредит в 100 000 американских долларов, она уже каждый день вспоминала того парня из Правительства. Лучшее, что я услышал тогда от нее, звучало, приблизительно, так:
– Если бы я, дура, не пожалела тогда этого …баного засранца-комсомольца, мать его …би, то могла бы спасти и себя, и страну!
Но может вся прелесть жизни в том и состоит, что, когда наступаешь на бабочку, не можешь предвидеть, как это отразится на ходе истории.
2002 г.
Еврейский вопрос
Иван Иосифович Шинкарев не был антисемитом. То есть не то, что бы ему сильно нравились евреи, но, как интеллигентный человек, как преподаватель университета и как филолог по специальности, он допускал существование среди этого племени людей достойных и полезных. С полезными он встречался, когда получал гранты на свои научные исследования (почему-то во всех фондах оказывались именно они). Достойных же он знал по литературоведческим статьям и монографиям, а еще несколько достойных были его коллегами и работали в том же университете.
Еврейский вопрос коснулся его впрямую всего один раз в жизни, когда он еще в советские времена выезжал по туристической путевке в Болгарию. Тогда, на собеседовании в райкоме партии кто-то из комиссии поинтересовался, не еврей ли он. Насторожили, вероятно, отчество и фамилия, уравновешенные, правда, безупречным именем. Иван Иосифович ответил тогда, что отец его, Иосиф Иванович Шинкарев – из старообрядцев, и никакого отношения к евреям не имеет. «Вот и славненько», – сказал партийный начальник и все же внимательно и строго посмотрел на Ивана Иосифовича. Внешность Ивана Шинкарева была не менее безупречна, чем имя: белобрысый, курносый, с голубыми глазами. Поездка в Болгарию состоялась, и об этом случае он совершенно забыл.
А в четверг вечером, через пятнадцать лет, вспомнил. Накануне утром его студентка сдала курсовую работу, посвященную актуальной, как казалось доценту Шинкареву, теме: уголовно-тюремному жаргону в современном русском языке. Тему он сам подсказал симпатичной студентке: она возникла у него в голове как раз в тот момент, когда он с любопытством разглядывал стройную фигурку и вполне привлекательные формы будущего филолога Ани Гольдман. На голом плече девушки он увидел небольшую татуировку с изображением бабочки. Наверное, подсознательная логическая цепь была такой: татуировка, тюрьма, филология. Все это сложилось в тему курсовой работы само собой. Так вот. В четверг Шинкарев пришел домой, поужинал, перекинулся несколькими словами с женой и залег на диван для изучения курсовых работ. Первой была работа Ани. Иван Иосифович начал читать.
«Меж воров во множестве употребляются слова еврейского происхождения» («Наставление по полицейскому делу», Спб, 1892г)…
Это был эпиграф к курсовой работе. Какое-то неприятное, пока еще не до конца понятое и осознанное чувство появилось у Шинкарева еще до того, как он приступил к чтению основного текста. Во вступлении говорилось, что большая часть слов и выражений в воровском жаргоне имеет еврейское происхождение. Далее были ссылки на разных авторов. Говорилось даже о Мартине Лютере, знавшем иврит и читавшем ТАНАХ, об ударениях в идише и иврите, об ашкеназском произношении ивритских слов и т. д. Шинкареву стало интересно.
Из основной части работы он узнал много нового. Добросовестная студентка приводила примеры. «Весь преступный мир должен перестать ботать по фене (на иврите: боте – выражаться, офен – способ). Всей блатной (на идише: блат – бумажка, записочка; блатной – свой, принадлежащий уголовному миру) хевре (на иврите: хевре – компания) следует рекомендовать не появляться на малинах (на иврите: малон – гостиница, приют) с шалавами (на иврите: шилев – сочетать, несколько мужчин, например). Нельзя иметь при себе ксиву (на иврите: ксива или ктива – документ), нельзя носить клифт (на иврите: халиф – костюм) как у фраера (на идиш: фраер – свободный, кто не сидит в тюрьме). Следует также избегать мусоров (на иврите: мосер – предатель), которые мечтают получить все на халяву (на иврите: халав – молоко, которое отдавали бесплатно) или на шару (на иврите: шеар – остатки, то, что не пригодно на продажу и оставляется на прилавке для бедных). В общем, если не навести кипеш (на иврите: хипеш – обыск, поиск, беспорядок после обыска) и не противостоять этому, то нам всем хана (на иврите: хана – делать остановку, привал)».
Не знаю, как всем, подумал Шинкарев, а мне, если эту работу прочитает заведующий кафедрой, точно хана. Он дочитал курсовую, в заключительной части которой делался вывод о серьезном влиянии на современный русский язык уголовно-тюремного жаргона, который в свою очередь практически весь основан на еврейских словах и выражениях. «Ладно, утро вечера мудренее», – сказал себе Иван Иосифович, и заснул, не приняв во внимание, что между вечером и утром есть еще ночь.
Во сне шла бурная воровская жизнь. Ваня Шинкарь был полублатным и содержал малину. В этот вечер пришло несколько марвихеров – одиночек, а уже за полночь ввалилась вся хевра с шалавами. Одна из шалав ему приглянулась. Это была Анька по кличке Золотая. На плече у нее была татуировка, маленькая бабочка. Уже под утро, когда Ваня лежал в объятьях Золотой и все больше распалялся, раздались выстрелы, а затем стук в дверь. Кто-то крикнул: «Мусора!», и воровской народ стал разбегаться, кто куда. Потом мусора устроили кипеш. Ваня понял, что на халяву не отойдешь. И, слава богу, проснулся. Звонил будильник. Утро. Господи, как хорошо, что я просто филолог. Как хорошо, что я не еврей, не уголовник, не блатной. Как вообще все хорошо. Прямо как тогда в Болгарии.
Иван Иосифович вспомнил про курсовую Ани Гольдман и поморщился. Пока пил кофе, придумал новую тему для ее новой (старая не годится) курсовой работы: «О функциональной роли префиксов в словообразовании на примере студенческого арго» или что-нибудь в этом духе. По радио в это время говорили что-то о Березовском, Гусинском, Ходорковском. Про розыски, аресты. «Все-таки я по-настоящему интеллигентный человек», – подумал про себя с гордостью Иван Иосифович Шинкарев и отправился в университет.
Семеныч
Звали фельдшера морга только по отчеству, Семенычем, и при этом обращались к нему всегда на «ты». Он сам так любил и от других требовал. А лет ему было не мало: когда я пришел в морг работать, ему было под шестьдесят, а когда уходил – под восемьдесят. Про таких, как Семеныч, принято говорить – человек необычной судьбы.
Закончив фельдшерское училище в 1940 году, он поехал по распределению на север области, кажется, в Шахунью. Там начал вести самостоятельный прием больных и сразу же организовал продажу больничных листов и справок. Через три месяца попался на этом и был отдан под суд. В первых числах июня 1941 года получил срок – четыре года колонии общего режима. И просидел все четыре года войны в лагере, был там лепилой (доктором), был сыт, в тепле, а главное, в отличие от многих миллионов своих сверстников, остался жив, цел и невредим. Судимость и лагерное прошлое он, по возможности, скрывал.
Смолоду имел он как минимум еще два порока: во-первых, был алкоголиком, но тихим, одиночкой и без запоев, просто каждый день принимал необходимую ему дозу спиртного; во-вторых, был исключительно активным бабником, что опровергает распространенное мнение о несовместимости двух этих достойных занятий. Донжуанский список его был настолько обширен, что Александр Сергеевич не смог бы его написать гусиным пером и за три часа. Семеныч писал и переписывал его шариковой ручкой на протяжении многих лет. Когда я последний раз заглядывал в этот список через семенычево плечо, возле неразборчиво написанного имени было число 255. Даже глубоким стариком он продолжал эту деятельность (не переписывать список, а встречаться с женщинами!), чему было немало достоверных подтверждений. Склонность к точности и ведению отчетной документации была замечена начальством. Поэтому в последние годы работа его в морге заключалась как раз в ведении документации. Руки у него тряслись ужасно, из-за чего почерк был совершенно неразборчивый. Но к этому привыкли и не обращали внимания.
Иногда Семеныч подрабатывал санитаром, то есть обмывал и одевал трупы, укладывал их в гробы и «продавал» родственникам (на языке санитаров это означало брать деньги в качестве благодарности). Деньги он любил, но работу эту делал неохотно. В тот день, о котором пойдет речь, Семеныч как раз подрабатывал санитаром. Было два вскрытия. Обе умершие – старушки с типичной советской судьбой, практически одинаковым набором болезней и минимальными внешними различиями. Первыми появились в морге два сына одной из умерших. Горя на лицах не было, хотя для демонстрации скорби оба попричитали немного: «мама, мама». Видно, заливали горе с утра, поэтому были сильно выпившие. Братья отдали Семенычу одежду и в ожидании выпили на улице, под окнами морга, еще по стаканчику – другому. Семеныч обрядил «маму» и уложил в гроб. Посмотрел на результат своей работы. Лицо покойницы показалось ему знакомым. «Надо по списку проверить», – подумал он, – «фамилию и адрес уточнить». Потом позвал сыновей. Те быстро погрузили гроб со старушкой на машину, сунули Семенычу деньги, бутылку водки и уехали. Пить Семеныч не стал, так как впереди была еще работа. Посмотрел в свой список, убедился, что знал старушку лет тридцать тому назад и внутренне успокоился – память не подвела.
Примерно через час приехали за второй покойницей. Семеныч принял одежду от дочери умершей. Быстро и красиво сделал свою работу и предъявил результат родственникам. Дочь сразу же и решительно заявила, что это не ее мама. Семеныч, любивший говорить про себя «тридцать семь лет не выходя из морга», намекая на свой жизненный и профессиональный опыт, в одно мгновение сообразил, что перепутал трупы старух. Конечно, из-за этих болванов-сыновей. Но, не теряя еще последней надежды, он произнес ставшую потом легендарной фразу:
– Болезнь, а в особенности смерть, сильно меняют облик человека!
Фраза не произвела должного впечатления. Началась истерика. Шум. Слезы. Семеныч понял, что нужны экстренные и неотложные меры, пока «сыновья» не отнесли на кладбище чужую маму. Он кинулся к гаражу, мгновенно договорился с водителем за две бутылки водки. Труп был погружен на машину, и они поехали по указанному в документах адресу. По пути Семеныч заехал к пивному ларьку, где за три минуты нашел себе двух бесстрашных помощников с сизыми лицами. Подъехали к дому. Квартира оказалась на четвертом этаже. Пока тащили гроб и его обитательницу наверх, Семеныч смутно припомнил некоторые подробности отношений с покойной. Бурный краткосрочный роман, закончившийся упреками и слезами. «Это она мне мстит», – подумал он, вытирая крупные капли пота со лба, хотя суеверным не был. Тем временем подняли, и не без труда, гроб с покойницей и внесли в квартиру. Поставили рядом с уже имевшимся гробом. Два гроба в маленькой хрущевской квартире смотрелись нелепо. Сыновья выпивали на кухне. Семеныч путано объяснил им, что нужно кое-что доделать в медицинских целях и в подтверждение своих слов достал из-за пазухи бутылку водки, полученную от сыновей два часа назад. Аргумент убедил. Пока братья пили и скорбели, Семеныч переодел трупы, поменял их и, немного успокоившись, выпил стакан водки с братьями. Потом внимательно посмотрел на два гроба и двух старушек.
«Как они все похожи, эти женщины», – подумал он и начал руководить выносом и погрузкой. Еще через час труп был доставлен в морг и выдан родственникам.
Если бы такое произошло в США или Германии – Семеныч опять попал бы в тюрьму или заплатил бы огромный штраф по иску за нанесенный моральный ущерб. Если бы такое случилось на Кавказе, Среднем или даже Ближнем Востоке – его бы просто убили. У нас свой путь. Семеныч получил сто рублей и бутылку водки. От перенесенного волнения выпил ее всю сразу, лег на кушетку в санитарской комнате и перед тем, как заснуть, безжалостно вычеркнул дрожащей рукой фамилию старушки из своего знаменитого списка. После этого случая Семеныч перестал подрабатывать санитаром, а вскоре и вовсе уволился.
Недавно я встретил его на улице. Умеренно пьяного. Он с гордостью сообщил мне, что получил справку о реабилитации. Теперь он называет себя жертвой репрессий. Стоит в специальной очереди на квартиру для репрессированных. Даже какие-то деньги за это получает от государства. На мой вопрос, как дела со списком, ответил коротко: «Все, подвел черту».
Поэтическое вскрытие
«Поэтом можешь ты не быть…»
Мои друзья и знакомые очень по-разному реагировали на мою работу врача-патологоанатома. У большинства этот вид деятельности вызывал интерес, смешанный с отвращением. «Как этим можно заниматься? Противно же! Я бы не смог». По-другому относился к этому Игорь Чурдалев. Он настоящий поэт. Видит и чувствует не так, как все остальные. В этом я еще раз убедился, когда после его настойчивых просьб пригласил его на вскрытие трупа.
Игорь интеллигентный человек. Его представления о том, что он увидит, были, главным образом, основаны на картине Рембранта «Урок анатомии доктора Тульпе». Для тех, кто забыл, напомню, что там изображен профессор с длинными завитыми волосами, в усах и бороде, одетый в бархатный камзол с гофрированным белым воротником. Вокруг – человек семь студентов, тоже одетых, как испанские гранды. А между ними аккуратный труп старика. Профессор ковыряется в руке трупа. Все очень чисто и пристойно. Шедевр, между прочим. В жизни все оказалось немного иначе.
Это была суббота. Я дежурил, и никого из докторов и начальства в морге не было. Предстояло одно вскрытие. Игорь приехал. Видно было, что он волнуется. Чтобы его немного успокоить и подготовить, я завел его в ординаторскую, сделал нам по чашке кофе. Мы выпили кофе, покурили, и я стал читать историю болезни умершего. Это был самый обыкновенный случай смерти от воспаления легких больного хроническим алкоголизмом. Единственной особенностью можно было посчитать то, что больной умер в городском наркологическом диспансере, где обычно умирают редко. Для врачей-наркологов это событие. Заведующий отделением обещал мне по телефону приехать на вскрытие, поэтому мы и не начинали работу. Ждали.
Я дал Игорю свой халат и шапочку. Когда он все это надел, то стал немного похож на врача. Закурили еще по сигарете, но не успели докурить, как появился доктор, которого мы ждали. Это был крепкого сложения невысокий мужчина лет сорока, очень серьезный и энергичный. Я видел его впервые. Он посмотрел на меня, потом на Игоря, выбрал почему-то Игоря, и начал рассказывать ему о том, как болел и умирал его пациент. Игорь серьезно и внимательно слушал, не перебивая. Иногда кивал.
Видя такую идиллию, я решил пока пойти и подготовить труп к вскрытию, а новоиспеченного поэта-патологоанатома и нарколога оставил одних. Что рассказывал нарколог Игорю в те десять минут, пока их не пригласили в секционный зал, я, примерно, знаю. Но что говорил в ответ Игорь, – даже представить себе не могу. Но, судя по всему, Игорь доктору понравился.
Они зашли в секционный зал, когда я уже был одет в фартук, нарукавники и перчатки и начал вскрытие большим разрезом секционного ножа от подбородка до лобка. Видимо, на Игоря обрушилось все сразу: и специфический запах, и вид распахнутого тела, и кровь, и я с ножом в руках, и лицо санитара Володи (по-моему, это самое страшное, что было в секционном зале в этот момент). Я посмотрел на него и понял, что он может упасть в обморок. Взгляд мутный, движения замедленные. Если бы начал падать, поддержать его ни я, ни Володя не смогли бы, так как руки у нас в крови. А пол в секционном зале кафельный, можно сильно ушибиться. Я уже хотел попросить нарколога поддержать Игоря, но нарколог сам всех выручил. Он сказал, обращаясь ко мне:
– Я вашему коллеге уже рассказал, как было дело. У нас на рентгене – правосторонняя нижнедолевая. Может быть, крупозная. Терапевт высказывалась за это. И по клинике, и по лабораторным данным, – он повернулся, обращаясь к Игорю. – Вы согласны со мной, коллега?
– Да, мне показалось это убедительным, – сказал поэт, и глаза его прояснились. «А могла начаться рвота, мог рухнуть, как подкошенный. Может, и не упадет в обморок, вроде осваивается. Молодец», – подумал я и продолжил свою работу. Когда я извлек комплекс органов по Шору, наступил второй момент, когда можно было ожидать обморока гостя. Я решил отвлечь Игоря от сильного впечатления и стал показывать ему пленки фибрина на задней поверхности нижней доли правого легкого.
– Вот, коллега, – обратился я к нему, – посмотрите, как в действительности выглядит классическая крупозная пневмония. Эти пленки фибрина легко соскабливаются ножом, – я продемонстрировал, как именно легко они соскабливаются. – Ткань легкого плотная, грязно серого цвета. С поверхности разреза стекает гной. Ваши с доктором предположения оказались верными.
Затем я исследовал сердце, печень, почки и так далее. При этом все показывал, делал многочисленные разрезы, обо всем рассказывал и минут через десять я заметил, что поэту уже не столько противно, сколько интересно. Об обмороке и речи быть не могло.
«Все хорошее когда-нибудь заканчивается», – любил повторять наш санитар Володя, когда вскрытия подходили к концу. Он произнес эту дежурную фразу и в этот раз. Вскрытие закончилось. Доктор уехал. А мы с Игорем остались в морге. Мне предстояло написать протокол вскрытия, а ему придти в себя. Я похвалил Игоря за достойное поведение и попытался его немного развеселить, сказав, что это было самое поэтичное в моей жизни вскрытие.
Когда мы уже собрались уходить домой, я поинтересовался впечатлениями от моей работы. Игорь все еще не окончательно пришел в себя. И от увиденного, и, особенно, от того, что ему пришлось побыть несколько минут врачом. Воображение вмиг дорисовало остальное…, так, кажется, у них, поэтов. Но, в целом, впечатление, похоже, было сильным. Желая еще его усилить, я подарил Игорю в память об участии во вскрытии никелированный молоток со специальным крючком для открытия черепной коробки. Он долго вертел его в руках, пытаясь понять, как им пользоваться, и нервно восторгался.
Историю о том, как он участвовал во вскрытии трупа, я потом слышал в разных вариантах от разных людей. А вот молоток видел у него дома на стене, подвешенным на гвоздь за крюк. Надеюсь, иногда вспоминает…
Врачебная ошибка
Моя родная тетка по отцовской линии, Ида Менделевна, жила в Ленинграде. Овдовела она, когда ей было восемьдесят лет. Детей не было. Все, что можно было оставить в качестве наследства, это однокомнатная квартира. Наследников трое – два моих старших брата и я. Особенного интереса к будущему наследству все трое тактично не проявляли, хотя несколько тысяч долларов, которые каждый из нас мог получить, всем были бы очень кстати.
Наступил момент, когда обо всем этом пришлось задуматься: из Ленинграда позвонила соседка тети Иды и сообщила, что дела очень плохи. Тетка слегла, перестала узнавать окружающих, начала нести всякую околесицу, перестала есть. Надо было ехать в Ленинград. Совет братьев-наследников немедленно состоялся. Решено было, что ехать должен я – и как самый свободный, и как врач. Задача была сформулирована для меня так: во-первых, дать медицинский прогноз для жизни, то есть сказать, когда все произойдет; во-вторых, выяснить, как обстоят дела с юридической стороной дела, то есть узнать, есть ли завещание и что оно предусматривает.